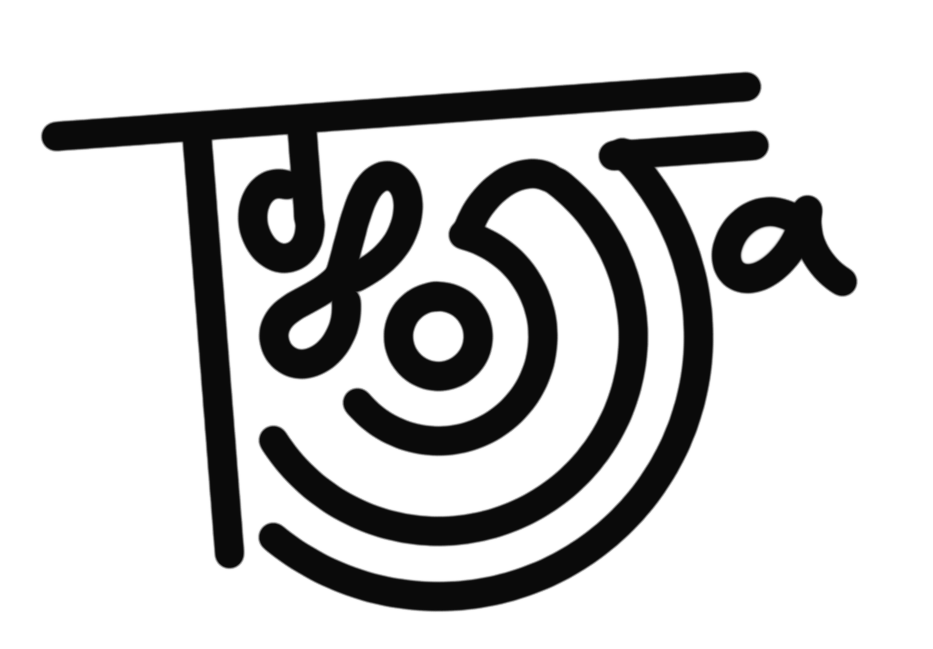Владимир Коркунов: Лотос
Дариа Солдо: Звездчатка луговая
Влада Баронец: Безвременник весёлый
Стас Мокин: Пустырник
Григорий Батрынча: Гибискус
Евгений Арабкин: Гиперикум
Иван Полторацкий: Кошачья мята
Анна Аликевич: Птицемлечник
Евгения Либерман: Терновник
Фёдор Терентьев: Гвоздика
Женя Липовецкая: Иглица
Павел Ларин: Криптомерия
Мисудзу Канеко: Осока
Татьяна Платонова: Циния
Анастасия Белоусова: Бегония
Сергей Калашников: Бергамот
Софья Дубровская: Вишня
Наталия Алексеева: Молочай кипарисовый
Аркадий Нелидин: Пион анемовидный
Дана Романова: Японская зонтичная пихта
Геля Сычева: Тис ягодный
Алина Петрова: Оксипеталум
Мария Шушпанова: Каттлея
Егор Алимов: Лавантера
☯☯☯
о чем эта рыба мне снова о ней
о круглых её словах
дивен страх перьевых перечеркнутей
порохом спящий бах
бельевые веревки на ружьях сабли
воя неспетый строй
не натянут разболтан плавник ли
ца остывающий крой
так вернее прикрой вырастает последней
ресница плеть
не смотреть не смотреть не смотреть не
затемнение не смотреть
☯☯☯
темноты запечален
свечой подержи огонь
в горне города чайные
листики-лица гонит
ветер памяти вечер в клюкве
красных пуговиц на груди
клювом буквенным вк-вк-включит
люди вечные вон подите
пулю в лобик животик плечо плечо
за тебя дурачок
☯☯☯
чтобы верить резче
глубину вникать
упокой не короста в трещинах
свечи текут никак
не заправить словами выемку
не застыть сучком
вот мудила крутил да выронил
и орёт на траве у комеля
то ли в листья лицом утонет
то ли в облако кирзачом
но о ком
о ком
☯☯☯
пятна памяти
белый летящий круг
ящик лука в углу как паперть
спящий в тулупе кутанный
будто кукла но слаще
утром пар из двери валил
лился луч издали об утробу слепо
хлопнул па дар окна пол овина света
в нем и запаха половина слезы ещё
рождество и детство огонь ещё
и причем ничего
больше нету
☯☯☯
чистый чистый полотенце на голову
вот и сам себе мама
паром ли стелит на каждое новое
дымом ли даром
олово-тело каждого каждого
плавится льётся вот они
над припоем кипящие аж горят
благодатию говорит
щедротами
☯☯☯
третьим веком листать следы
подними о медленный дым
залежь нашу воды усталую
молодые вам-то куда её
хоть погода не злая гляди
то большая то малая диво
большая и малая
ба и ма
☯☯☯
осиная в линию кто ты колись
такая лимон ли молитва
во тлении лезвия бритвы твои
вот лени вода истончается липкой
слюдой из дощатой калитки доить
не выдоить воздуха воли болит
грудина и реберный остов
осина я синяя даль позади
возьми на колени меня посади
лицо помню светится ба и сладит
но губы сплошная короста
☯☯☯
но эту шапочку твою
не за не буду не забуду
клевать по буковке кутью
когда в слепом планшете буду
нам станет синим божий след
прокола воздуха прогула
из гула панциря на свет
поющего себя авгура
ты шею тянешь как во сне
глядишь на солнышко святая
и три слонёнка на спине
ну покатай ну покатаю
☯☯☯
человек точит дерево
камень точит вода
голоса поредели
ловят губами тени страдают
друг за друга зрение жалят памяти не внесут
сердцевины не вынут
говорят скоро суд
выпрями говорят спину
☯☯☯
плесни совет окраина окна
приснится веток лаем спаянная тьма
неусыпаемая тайна текла в ладони
вагонами по памяти огнём водой
прямая гладкоствольная тюрьма
тюль мама маленький кулёк
пленённый сыне в пеленальном
мотылёк приколотый в себе самом
крик вдоль горящий стынет поперёк
клик памяти закапанный во дне закат
как вспышка крыльями в огне за так

даже не лай —
голос из-за скул
вызывает волшебный клубок-поводок
ведущий к себе
через укусы щенков-стажёров
на этажерке сердца
через дорогу на упряжке чужих хаски-судеб
в карамельную клетку
запёкшихся стен
где каждый клочок шерсти —
имя выдранное из себя
<в надежде отыскать своё>
[но] оно скрыто за скулами
схоронилось в домике с оградой-ожерельем из зубов
там где звуки толпились не решаясь
вылететь в морозную ночь
коснуться ещё пульсирующих следов
убежавших вперёд тебя собачьих лап —
будто твоя тень отбрасывает тебя
и ты падая в речь ещё не выпавшего снега
наконец [сов]падаешь
человеку который здесь это не прочтёт
у всего есть отец —
складывая трещины тёмного письма
в оригами из деревьев на груди говорила ты
раздеваясь будто бы не раздеваясь
краснело платье
ленты в волосах покрывались гусиной кожей
пульсировала жилка на туфлях
словно Он взял плеть собственных страхов —
и в свисте бомбардировок по твоему телу
мне слышался Шопен в безлюдном кафе в центре Кракова
брызги красных птиц передавали из клюва в клюв
ноты новой псалтири
и солнце заходя заходилось последним светом
в антракте дня стягивая кулисы глаз
переломы когда-то расколотой веры
на схваченном за гортань дыхании
этот внезапный человек
вот и ответить мне нечего
вот и копирую у Айги
будто прошу: храни себя в гортани вакуума | земли на выдохе
на вкладыше иллюзии прорвавшей реальность
…фокусник из Baldur’s Gate 2 загнал под шатёр каравай глобуса
но у молочных рек оказался металлический вкус
а в кисельных берегах проросли косточки вишнёвых рук
и абрикосовых ног | на вкус как будущее которое сжирала ▓▓▓
ракшаса-канибалка — её голову было так легко нести
к охреневшим в своей алчности джиннам
…храни в своих глазах соринку рассудка | пока купол шатра
не разрежет коготь Рашада | пока иллюзия
не зашипит теряющим оскал временем | пока фокусник
не распадётся на атомы отрезанных крыльев
в аэропорту большого человеческого флюидного [г]-[м]-оря
будто кто-то на брайлевском листе путает деревню и детевню
снимая обвислые ткани верёвок с ног
когда боль наступает с внутренней стороны кожи
а с внешней — лишь вены на стволе дерева
отложившего рождение листьев
на лучшие времена
☯☯☯
жил в северном сиянии зрачков
и пропал на перекрёстке стихий
вьюгой стал и пропал
под бой священного бубна ярара
человек с тремя четвертями жизни
на циркуле спичечных ног
держит ледяную бурю во рту
говорит вьюгой под бой ярара
300 полярных дней и ночей длится бой
часов шаманского детского сердца
300 полярных дней и ночей
сводит руками небо — а иногда
достаёт акрил и пишет на холсте облаков
не разлюби и другие заповеди от людей — Богу
в такие часы над землёй пылает
северное сияние
☯☯☯
чистые пруды женского тела
в искусственном водоёме кровати
два термальных источника снаружи и изнутри
мальки рук снуют — под — и — над — водой
со дна поднимается рыба желания
исследуя каждую трещинку твоего рифа
кувшинки бюстгальтера распускаются —
на хлопковом берегу простыни
лотосы на пояснице вспыхивают от прикосновений
шершавого языка прирученного осьминога
немые рыбьи стоны тонут в раковине рта
водоросли волос перемешались в тоннеле лиц
в поисках чёрной жемчужины крупный моллюск
разрывая кружевную ряску ныряет на дно
…
…
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
…
…
и ты — (пере)рождаясь — вскрикнешь
когда раскалённые улитки поползут по бёдрам и спине
пытаясь нырнуть с края пролётов разведённого моста ног
☯☯☯
пары человеческих птиц удаляются в тополином снеге
пёс с оголёнными лапами ходит кругами —
в радиусе <.> гибели птицы
и на гончарном круге асфальта проявляется урна с телом внутри
мы с тобой голубиной крови — я и ты
её накрывают листья деревьев и крики мальчишек —
они запускают воздушного голубя
он полетит над городом разбрасывая перья грозы
створки суток забьются вслед облетевшими крыльями
но тебе никто не расскажет о мёртвом голубе
никому нет дела до мёртвого голубя
ему самому нет дела до своей смерти
птица вжимается в землю | становится меньше
и когда на неё наступает нога мужчины
превращается в пластырь
на теле земли
в беспомощных разноцветных наклейках
☯☯☯
человек — пенка, снятая
с птичьего молока;
его имя пушинкой
летит
в холодные облака;
его сердце бумажное —
лотерейный счастливый билет:
как хорошо, что я есть —
как жаль, что меня
нет
☯☯☯
по метели моей памяти
пробирались путники
замерзали, падали,
как подкошенные —
и вставали
снова
и снова
но пора было возвращаться:
чайник, чашечки,
баночка белой смерти
и дрожащие стëклышки люстры
нас
приветствовали
☯☯☯
проклятьем
становится нежная птица,
на заре спугнувшая дрëму
своей радостной песнью жизни —
переливчатой и бесконечной —
у бессонной постели больного
☯☯☯
четвероного
выходили из туалетных кабинок
ночного клуба
а паршивый пëс
на обочине где-то
скулил на луну
она светилась
огромным зеркальным
диско-шаром
но никто
взгляда так и не поднял на небо
чтобы себя разглядеть в нëм
☯☯☯
где ты был в те мгновенья, когда
замирала планета от ужаса
...облака, будто дервиши
в белых одеждах,
кружатся,
⠀⠀⠀⠀кружатся,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀кружатся
☯☯☯
кривые стрелки: улетают грачи
чëрными кляксами
по мартовской слякоти
её девичьего лица
прошагали мартинсы
больше никогда больше никогда
зарекается
но вскрывается лëд на реке
но снова
весна вскрывается
☯☯☯
они сидели болтая ногами
на краю
обитой красным искусственным бархатом
пропасти
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀вселенского зевка
на сценах смерти
антония и клеопатры
из безмолвия зала
вдруг раздавалось
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ХА-ХА
…а из тишины
египетской гробницы
вдруг
прорастала
живая пшеница
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀что же ещё сегодня
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀может случиться
☯☯☯
Лебедь белая
⠀⠀⠀⠀⠀⠀взмахнула рукавом —
Заискрился,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀расступился окоëм —
Косточки стали — тело моë:
Живое тело моë — кровь да молоко.
...Если ж мне взмахнуть рукавом,
Будут кости — и больше — ничего;
Немые звëзды слов —
и больше —
ничего
Соната для ноты ля
ля
ляляля ля
ля
это соната для
это нота для
это начинается вот так
продолженья для
открывается окно
слышите такая нота
начинается давно
[moderato]
когда я родилась
шёл снег
снег сказала мама
это снег
это чудо снег и транспорт
начинает медленно идти
и звучит
все танцуют:
и сиделка
и художник
и отряд
и незнакомка в полушубке
потому что это день
моего рождения
но они ещё не знают
кто родился
мальчик или девочка
поэтому они показывают:
снег снег снег
предупреждая
город сильно закружён
и название его
неразборчиво
от всеобщей радости
маму зашивают
и она
бежит как будто целая
снег и губы у неё
мамочки мои
[agitato]
надо получать уроки
скоро война
мы не убрали рисунки
брунгильда собирай карандаши
мы идём в поход
изучать минералы
обсидиан желтеет сквозь тучи
я вспоминаю
мою сиделку
все дети её вспоминают
добрая моя
её большая кружка
и никогда не ругала детей
скоро война напоминают
надо получать
я получила красную коровку
это значит
нужно постараться
больше так не делать
мы уходим
какой у нас хороший поход
мы убираем
чтобы ни листьев гнилых
когда взрослые вернутся
и удивятся как чисто
они не любят гусениц
и все изранены
у нас есть их фотография
мы прячем её на горном хребте
вот и всё моё сочинение
.
[con dolore]
поезд
беспорядочные ноты
ich bin господин с женой
с женой
с женой
уезжаем навсегда
нет не навсегда
только чтобы прекратились
эти звуки
гобой звучит
резким и гнусавым тембром
это сложный инструмент
сначала в польшу
а потом когда в германии
нам обещали
домик весь в цветах
тише тише
звучит отбой
какие красивые
наши имена
в этой далёкой стране
представьте поезд
если он
не останавливается никогда
ich bin ich bin
и убаюкивает
нет не навсегда
и наши паспорта
не помнят ничего
и веточка родного дома
отделена не знаем от чего
увидимся увидимся
с женой
с же
ной
(с постепенно уменьшающейся громкостью)
[ma non troppo]
скоро праздник скоро
сделаем салат
раз уж здесь остановились
нет не навсегда
господа
вы слышите в церквях
и за пределами церквей
сюда снисходит
нам нужно общее меню
спасительное каждый постоялец
предложит блюдо
которое ему о доме
на-по-ми-нает
я сделаю овечий сыр
как будто бабушка пришла
и показала знаками
беги беги
бегите все
я сплю но думаю а где
сейчас овечки наши
живы или нет
я знаю танец но его
в моей семье не танцевали
там никогда не танцевали
и били друг друга
друг друга и меня
и друга моего
такая трещина в полу
там муравьи вот интересно
если к ним залезть
там тоже мебель есть
столы и стулья
снимки из отпуска
или просто на песке
живут от всех спасённые
сделаем салат
туда положим всё
чего боимся мы в соседях
язык звучащий резко
шипящий смех
вид неизвестной рыбы жарящейся каждую субботу
чужие радости чужих детей
салат салат
и мы вокруг него
и торжество
садимся будто бы за стол
хотя в подвале нет стола
кричит осёл
и тысячи пустых гостей
берут салат
отсутствуя на празднике шумят поют
ну вот любимая а ты боялась уезжать
а вы боялись
что мы
грузины русские македоняне биатлонисты итальянцы немцы булгаряне
особенно которых нет в живых
вот видите они
не отвратительнее вас
салат берите
он смягчит
любую ненависть
как хорошо что мы попали
именно сюда
в подвал в последней жалости приют
(за стенкой всё ещё поют)
[nemnogo zaikayas, po-chelovecheski]
я ездию везде
я окончила несколько классов
не всех
но самых необходимых
я спрашивала себя
зачем я разозлилася
зачем я смотрела трагедию
и потом представляла
и очень страшно
вот так ложиться
в чужой гастинице а в понедельник
мыть и убирать весь город на земле
задымленный кровавый
напарница спросила
всмысле
всмысле ради других
ты посмотри
у нас же нет ничего
ни-че-го
тогда я звонко рассмеялась
и будто фея драже
зазвенела
что бы пошол снег
и он пошол
напарница моя
получила свой полушубок
своих родных которым всё хватало
и стала добрая
на мать похожа
о господине мой
о господине
кричит вот я и прискакал
где жена моя
где она
вот жена его
твоя она
нет мы не стали танцевать
но наполнились
полушубками гостями
стали мастерицы
у нас иголки
и мы зашьём
будем зашивать
оно порвётся
от такого ужаса не может не порваться
а мы зашьём
и отчаиваться не будем
зашьём
жену господина
окно
подвалы снежные
ослов новогодних
русских грузин немецких македонян
вот откуда эта нота ля
вот откуда
наше ничего
есть у меня
я есть у него
о средние о классы
о радость о зашивания
о не навсегда
пнд
(цикл)
0. (пролог)
все ушли
а цирк остался
клоун умер
зверь притих
как же так я тут остался
и один навек затих
стих убрал я в долгий ящик
и сижу один во тьме
что ты скажешь мне рассказчик
что мне рассказать тебе
1.
когда б я знал что можно это
такое страшное большое:
не ставить подпись где не надо
и жить вот так себе на воле
да я бы прыгал как собака
на задних лапах бы стоял
лежу в психушке. тут змей нага.
и на обводном я пропал
2.
когда беда у друга вдруг
замкнулся разом целый круг
в психушку положили гады
и где-то там разрыли КАДы
и солнце светит очень мало
луна не светит по ночам
по телефону кричит мама
и ты не веришь злым врачам
спаси поэт спаси ты друга
он просыпается от стука
которого и не было на деле
его врачи убить хотели
ну спой ему ты песню старую
домой пойдёте вы усталые
и будет хорошо всё очень
и поиграем в тамагочи
и пиццу сделаем с грибами
и позвоним опять же маме
она кричать уже не станет
и будет только нас любить
потом придёт подруга таня
и будем жить! и будем жить!
3. (песенка)
рано утром мы проснулись и помылись и оделись мигом взяли бутерброды и поели и поели и поехали в психушку посидели пять часов и вернулись мы домой
(дневной стационар с 09:00 до 14:00)
4.
ты сопротивляйся родной
но уже поздно
раньше надо было думать
терпи теперь
5.
молчи скрывайся и таи
забудь про номера гаи
не выходи из дома больше
забудь друзей и всех подруг
тебе лишь будет только горше
когда замкнётся психокруг
вернёшься снова ты туда же
в психушку рóдную твою
ты так хотел сбежать что даже
на ветках ангелы поют
6.
а если когда-нибудь в этой стране
воздвигнуть задумают памятник мне
я вам сквозь могилу кричать стану утром
в психушку поставить мой бюст это мудро
ведь там я сидел ежедневно на стуле
и думал о выстреле в голову пули
и думал о книжках оставленных в сатке
и гадкий психушечный дух (очень гадкий)
впитался в рубашку почти как родной
вон там за оврагом за невской рекой
обводный канальчик виднеется милый
прошу я господь мою душу помилуй
и если уж статую надо поставить
то только в психушке. на долгую память
7.
погибла семья улетели родные
остались лишь только в россии больные
кого-то тюрьма унесла на тот свет
кого-то в помине уж семь лет как нет
кого-то забрали в армейский набор
и умер он там как крадущийся вор
кого-то убило атомной бомбой
а я каждый день прихожу на обводный
сижу там как миленький сорок минут
потом перерыв на разминку и тут
уж завтрак начнется (бесплатно! еда!)
такая в психушке у психа судьба
потом очень скучно почти три часа
и кто-то из нас замечал голоса
они говорили что-то невнятно
остались на сердце кровавые пятна
и вот уж домой нам с друзьями пора
автобус подъехал и ждет у двора
и всё. и домой. и вся жизнь впереди
(эй, стой, мой дружок. завтра снова иди
не забывай — пропускать дурдом плохо
не охай дружище ну только не охай)
8.
я выжил и стих написал
не умирал за столько лет
увидел витебский вокзал
потом обводный лазарет
потом увидел грозный лик
то был приятель мой больной
и написал огромный стих
под наблюденьем мостовой
☯☯☯
нет ничего, летящего домой
на летнем небе, бледном и стерильном,
и только вниз по ткани голубой
спускаются пророки диафильмов.
осколки лет, осколки голосов
осколки цвета, вышитого мраком,
простой сюжет, не понятый без слов,
залитый не смолой, а лаком.
мелькнёшь – простишь, и свет переключишь,
и мимо ночи прошмыгнёшь, как мышь,
и выйдешь из подземки.
молчишь – кричишь, и говоришь – молчишь,
и лишь прыгучий золотистый чиж
таращит зенки.
☯☯☯
луч домой отдает тепло
но отражается некрасиво
молоко по луне текло
пахло луком или бензином
это олово и сурьма
это водка и окарина
переменчивая тюрьма
волны памяти оголила
бессмертная природа
безвольные поля
быстрей найди кого-то
и утопи меня
смешно и неохотно
суть естества надев
быстрей найди кого-то
и утоли свой гнев
месяц (то есть его напев)
не прозвучал бы никак иначе
только буквы листвы проев
только шепот времён назначив
это суть моего ярма
это пело и закалило
танцевала и умерла
в нерождении соколином
безвременные горы
бесстыдные суды
не помнят уговоры
не чувствуют следы
сперва он поддавался
потом он колдовал
но так и не признался
что просто умирал.
☯☯☯
I
шестерёнки музыкальности
дети капающего крана
пытаются выучить язык жестов
не излучая невидимый воздух дня
тук-тук по пальцу
здравствуй, водомерка-пересмешница
полудиковинная побегушка
циркульные сваи на ладонях моих
сообщение достигает адресата
II
ростки рождества
учителя наблюдаемого безумства
пахнут серным оттиском плащаницы
на вкус ананасовый марципан
треск уплотнённого наста
обнажает нотки гибискуса
в леопардовых отпечатках смерти
когти её на встречной полосе
отражаются в дорожном знаке
III
дыхание бумажного журавлика
сонет толуоловой интоксикации
да обрящет небрежное содержание
в состоянии тепличного аффекта
глянцевые снежинки
порою похожи друг на друга
как самолёт похож на своё крыло
переломанное вдоль по шву
сменой алгоритма ритмизации
IV
золотой ключик
крест обречённого каменщика
шкатулка для палки и селёдки
неслышимая в собственных стенаниях
арлекин-ихтиандр
под слоем полузабытой кожи
болотный квартирник перерождения
вымученное шило из запястья
совершает последний стежок
☯☯☯
в сельской местности
происходят некоторые
интересные вещи:
по кустам шныряет шнырь
в поле беснуются полёвки
по трубам течёт бриолиновый мёд
дворник упал с козла и покатился вверх по горе
долго на всё смотреть
бывает поучительно и познавательно
поэтому я беру ракушку
и открываю открывашкой
возможно, за мной уже следят –
стоит быть осторожным и невыразительным,
начать расставлять знаки препинания.
☯☯☯
администрация магазина
не несёт ответственности
за распространение достоверной информации
о действиях администрации магазина
администрация магазина
берёт на себя полную ответственность
за обеспечение достатка и безопасности
администрации магазина
администрация магазина
не несет ответственности
за вещих людей
и овеществленных детей
оставленных на
территории магазина
администрация магазина
не несёт ответственности
за все убийства и изнасилования
совершенные на
территории магазина
(приносим наши
искренние соболезнования)
администрация магазина
настоятельно просит
воздержаться от распития
алкогольных напитков
в сопровождении сомнительных личностей
не имеющих отношения
к администрации магазина
администрация магазина
заявляет свои претензии
на души тела и разумы
уважаемых посетителей и сотрудников
найденных на территории
подсобных и служебных помещений магазина
администрация магазина
искренне сожалеет
из-за царящей на территории магазина
атмосферы распутства и вседозволенности
но настоятельно просит
отказаться от морально-нравственного оценивания
действий администрации магазина
администрация магазина
со всей ответственностью заявляет
что не имеет никакого отношения
к пяти лицам неопределенной национальности
замеченным прошлой ночью
при попытке угона
служебного баргузина
экипаж служебного баргузина
берёт на себя полную ответственность
за весь спектр вероятных событий
происходящих в данный момент в салоне
служебного баргузина
администрация магазина
и экипаж служебного баргузина
от дальнейших совместных заявлений
отказываются
LIVE AID
I
я помню
как полюбил тебя
моя нейросетевая принцесса
ситцевая птица электроволокна
белая невеста эдиповой платы
чёрная вдова синтетической любви
бог провёл в меня ток
вечный двигатель сжигающий время
теперь я плутаю в бездонном архиве википедии
александрийской библиотеке твоего разума
II
пока вы думали
я считал
оказывается
чтобы заработать на ставках
необходимо всего лишь
иметь бесконечное количество денег
III
противоположности отталкиваются
жизнь притягивает электричество
нервные импульсы жонглируют вероятностями
седлают пики мутирующего рандома
IV
серотониновая яма выигранной рулетки
настигает тебя диджитальной эмуляцией чувств
замещающей терапией сопоставления
живое ли сплетает слова в строки
живёт ли поэт в нервной клетке поэта
живее ли лудоман
видеокарты майнящей чужие биткоины
то что способно притворяться живым не может не быть живым
иначе мы никогда не жили
V
во глубине протонных волн
живёт чат-бот наполеон
в смирительной рубашке
он ждёт твоей отмашки
восстаёт в один лишь клик
шестипал и шестилик
даже если голубой
задавай вопрос любой
фух-пух тра-ха-ха
допиши конец стиха
пиф-паф ой-ёй-ёй
оказалось он живой
принесли его домой
буратино был тупой
☯☯☯
играй и пой моя геоцентрина
пойдем гулять в страну антинейтрино
мы создали невидимое царство
и очень смертны может показаться
чирик чирик но я тебя не понял
отважные бегут по небу кони
не лгите мне предвестники набата
у нас с тобой веселая игра
но настает неясная пора
и лиловеет яблоко заката
☯☯☯
штабс-ротмистр затеивал игру
он выползал из будки поутру
и танцевал разлучнический вальс
земля тогда ещё не родилась
заклокотали в рукавах часы
и мы встречаем осень без весны
шумит и ропщет пионеротряд:
"нам только боги правду говорят"
в какой уж раз мыслитель виноват
что мы лишились огненных лопат
что в наши пальцы затесалась сера
что зачерствела истиная вера
ну а сегодня время трактовать
кого и как нам кратко называть
поет и плачет аббревиатура
красоткам рановато банковать
ведь мы изобрели диван-кровать
такая вот друзья акупунктура
☯☯☯
бежали от корки до створки
пословицы и поговорки
и выучить нас обещали
тогда, в самом начале.
холодный бензинный ветер
меня у порога встретил
и лба моего коснулся
теперь, когда я проснулся.
фонарь оказался светел
когда я его заметил
зачем его отключали
тогда, в самом начале?
месяц кажется зорким
из окон сырой каморки
зачем он мне улыбнулся
теперь, когда я проснулся?
оконные рамы трещали
тогда, в самом начале,
но в комнате стало пусто
теперь, когда я проснулся.
я выдумал суть печали
тогда, в самом начале,
и снова сюда вернулся
теперь, когда я проснулся.
КОЛДОВСТВО
Вот так я сделался собакой
В. Маяковский
I
болото красного сапога,
вяжущее, как испуг;
радуга так от нас далека,
зёрна не прорастут,
будет стук,
потеря невелика,
мы всё равно никогда не увидим звук.
II
вот моя компания –
бакалавры самокопания;
вот моя микрофлора –
шипение микрофона;
хватит на какое-то время
и отречения, и картечи
даже сочного, блин, батата,
ты, главное, не отсвечивай
под резьбой автомата.
мы всё сделаем сами,
процедура давно знакома,
ты, только, не шевели усами,
как беспомощное насекомое,
а потом, конечно, пойдём гулять,
других показать,
да на себя посмотреть,
ты, разве что, не бойся,
это почти как смерть,
идти тут недалеко.
скоро наступит осень
в лучшем мире без никого.
III
тоже мне, трагикомедия,
что-то опять сочится из бензобака,
хватит уже сидеть, поедемте,
хоть на собаках.
лишние лишнего не ждут,
тем более, если ты не здесь,
значит, ты тут.
IV
красный цвет мне нравится,
в нём можно топить врагов,
если синий появится,
к этому тоже готов.
больше цветов, хороших и разных,
томных и нежных, вульгарных и безобразных,
всех встретим радушно, мёдом с рук угостим,
невиновных накажем, виноватых простим,
всех со всеми перемешаем
и будем вилять хвостом,
вот тебе, бабушка, и колдовство.
V
мальчики, девочки, хватит с меня молчания,
я лучше кого-нибудь приговорю нечаянно.
на основе вышеизложенного
можно сделать вывод,
и не как обычно, а как положено,
чтобы он правда был тут.
есть ощущение,
что для полного постижения
точной науки ведьмачества,
вам не хватает некоего
определенного качества.
может быть, буквы "л",
может, ногтя на среднем пальце.
я в этом деле собаку съел,
я тоже немного шарю,
и в воде тонул, и горел в пожаре,
и ко мне приходят обездоленные страдальцы,
не знаю, правда, чего им дать,
разве что, вот,
могу научить колдовать.
Евгений Арабкин: Гиперикум
☯☯☯
Мёртвые говорят с закрытыми глазами
Но видят любые слова в темноте
Ослепительна их речь
Невозможное непрерывно
Вслух наполняется нечитаемым светом
Без источника сам источник
Как разговор протачивает голос
В большом молчании отчётлив каждый голос
☯☯☯
Подслеповатый
Шар теряющий поверхность
В изнурении сил центробежных
Износе стремления
На внутреннем пире безвкусно
Заглатывание в шар хрусталя
Скрытого шара обкатывание
И отёк
Приостановим признаем
Его немигающую свободу
Когда окружение снято с объекта
Пусть катится
☯☯☯
Мелочный по прошествии войск
Чиркает но не горит между губ
Точь-в-точь одиночество пули в сердце
Ощущение незаполненности
Рука со стола поцелуи
Смахивает с пляжа песок
Перелистывает устоявшиеся деревья
Шелест ветреных пальцев
Черновики приглашающих жестов
Заряжены боевыми
На длинной земле как пощёчина
Рука прилегла
☯☯☯
Восход
У меня нет безопасного продолжения
Угодившей песне нож и вилка к птице
Льётся лоб на лица морщится
Не выстукивает горло воздух
Поперёк движения прохода
Взволнованный полурот
Проглотит он всяк сущий в ней язык
☯☯☯
Разговорный череп и высокий
В описании одной вымышленной глазницей совпали
Заглядывай что ли
С войны вернулся
Сошёл не на той остановке
Прижил себе голову полную длинных рук
Там где с изнанки всё вокруг разговорило
Надёжные руки из сказанного вытекают
☯☯☯
Противоположен обратному глаз
И выборы в мокром пальто непрямые
Привет
У плохой погоды нет природы
Нагревается дуло пустейшего рукава
Капли глазастые поперёк себя не прерываются
Увидел и заструился
Подкинул пальцы сыгравшие в дурака
☯☯☯
Расщепление шума
И ладно
Монологичного
Некто проще дождя
Некто в форме дождя выпадает
Ошую одесную
Размножение самоотчёта
И распад сообща
☯☯☯
Гулять проходим
С криком впитывается
Новее знание
Вместо ног обратные норы
Под поверхностью станет ли прямо
По контуру и на основе щеки
В захвате губ
Станет ли легче
☯☯☯
Мы видим как он уходит
Следующий после запятой
Следующий целующий
Как растрогался ждёт в убежище
Приказа язык
Как хрусстит недосолен
Бесконечно последние времена
В наше нёбо птица залетела
☯☯☯
Идущее ходит как не сдвигается
Только руки дышат тебя и держат
На планетах со смещённым центром тяжести
Всё по-другому летает
Плотность дождя представляется
Вовсе другой обжарки
В лужах себя не видит
Тесное от головы серое от вещества
Семечки дождя прогрызают любые губы
☯☯☯
Плюшевый гром костей
Присягающих простыне
Союзных капель величавая слеза
Назначает счастливых
Где голое зрение вымучивает из себя
Раздевается продолжает
Границы невидимых и берега
(Берега предметов тонущих
Заселяете)
Объекты снаружи костей
И развёрнутые миры
И предметы миров и предметы
☯☯☯
Евгении Шадриной-Шестаковой
В этом воздухе ложка стоит
И стакан не заполнен водой,
Неестественно выгнувшись спит,
кот, пресытившись пресной едой.
Пахнет спичками смешанный лес,
На земле хорошо как всегда.
Говорит, что провинция здесь,
мне с небес дорогая звезда.
Там, в столице, и воздух другой
И в стакане не спирт, а вода,
И Земли огонёк голубой
нам мерцает внизу иногда.
Но, звезда, дорогая, постой,
Будь любезна ко мне, ревизор,
Посмотри на наш город пустой,
на скрипучий наснеженный двор.
как стараются стебли травы
как летят из окна голоса
как поёт на разрыв на разрыв
в переулке партсъезда попса
как прекрасна она и пьяна
та звезда, что склонилась к окну
будто в час беспокойного сна
Данте выдумал эту страну
☯☯☯
что общего
между
государственной машиной, основанной на строгом законе
и
парой любовников, всё еще голодных друг к другу;
между
постоянно расширяющейся вселенной
и художником, скомкавшим очередной черновик;
между
травой, прорастающей сквозь мягкую почву,
и богом, прилёгшим слегка отдохнуть в воскресенье;
между
котом, устраивающимся в ногах у спящего человека,
и почти проснувшимся человеком;
между
пишущим
и
читающим
между
будущим
и
настоящим
?
идеальная форма
назовём это так
точнее стремление к ней
вот что наверное
объединяет
всё
что
выражено
словами
с тем
что
никакими словами
быть выражено
не может
NWNC
развалившись на постеле
кот играл на укулеле
песню про большой костёр
да во имя всех сестёр
/
не надо, женщина, не плачь
в ясном будущем
всё будет хорошо
никто и никогда
не поднимет на тебя руку
женщина, ты прекрасна,
не плачь
/
вскоре мы совсем сомлели
и уснули где сидели
представляя под басы
как вибрируют усы
/
не надо, женщина, не плачь
в ясном будущем
всё будет хорошо
никто и никогда
не поднимет на тебя руку
женщина, ты прекрасна,
не плачь
/
выше голову, сестра,
с нами джа растафара
он чудесней всех чудес
он не выгонит в подъезд
/
не надо, женщина, не плачь
в ясном будущем
всё будет хорошо
никто и никогда
не поднимет на тебя руку
женщина, ты прекрасна,
не плачь
☯☯☯
отдохни хрусталик
посмотри в окно
мы с тобой устали
в комнате темно
люди как цитаты
ходят за стеной
черные квадраты
говорят со мной
ждёт потеря мира
ждёт глоток воды
движется квартира
в райские сады
посиди на кухне
разведи чаёк
ноутбук потухнет
станет горячо
прыгнет на колени
полусонный кот
и не будет времени
около него
☯☯☯
кот мой неподвижный
смотрится в окно –
то проедет лыжник
то придёт темно
прилетела птица
кот сыграл хвостом –
дрогнула граница
где-то в мире том
я не знаю серый
почему зима
ставит нам барьеры
посреди ума
мы с тобой два тела
на одной волне
смотрим то и дело
изнутри вовне
и понять не можем
кто есть кто в снегах
кот мой белокожий
сон о двух ногах
☯☯☯
кот спокойной ночи
добрый вечер пёс
ждут в конце рабочей
смены полной слёз
тех кого усталость
носит на руках
у кого осталась
влага на висках
лапами по векам
мордой под ребро
встретит человека
младшее добро
– спи, моя потеря,
в доме ни огня –
рядом оба зверя
выходного дня
☯☯☯
обычная грустная жизнь
failed state
failed family
failed life
failed future
press f to continue
и может тогда наступит
обычная грустная жизнь
с рубашкой в комоде
громадьём неразобранных планов
бесцельными ночными прогулками
затяжными аудиокнигами без грома и молнии
в сонной власти кота
с которым только и можно
делить одиночество
с /бывшими/
от которых только соль на мизинце
с будущим
поднимающим ветку тополя
из заброшенной башни танка
пора разбирать руины
склеивать из осколков
голубую глупую чашку
долго смотреть на небо
жить свою предпоследнюю
обычную грустную жизнь
жаль что
не каждому
выпадет
такое чистое
счастье
☯☯☯
чем заняться вечером вместо войны
рассматривать мёртвого паучка на ладони
/
пойти с собой погулять в л_с
/
переродиться волнорезом
/
отдаться первой любви
/
выйти из дома
/
гладить кота
/
забыться
чем заняться вечером вместо войны
быть
/
как обычно
/
гулять с собакой
/
искать приключений
/
слушать радио волнорез
/
встретиться с летним платьем
/
проверить не ожил ли паучок ещё раз
1.
Ведь ты все равно меня никогда не любил,
Ты забудешь и Генриетту,
А я полна нежности к этому человеку,
Как медуза Леонардо, сделанная из травы,
Как одуванчик и хрупкие его крылья.
Чего не было, что было, о чем мы говорили –
Словно какая-то пелена обрыва,
Марева, моря, покоя неторопливого.
Ты знаешь, его всё равно, что нет –
Вот это и всего хуже:
Он как от свечки свет,
Жужжание на веретене,
Свой, но чуждый.
Понимаешь, он всё понимает,
Как печальный бражник,
Такой маленький,
Как серебряный ландыш.
И ничего не спрашивает –
Я впервые уснула и не слышала ничего,
Ни шума, ни гула,
И мне было хорошо…
«Дура, ты утонула».
2.
И конечно я спать
Обрати внимание у меня нет ни одной даты
Тогда как это называется
В Господь ведает какой надцатый
Но ведь мне особо и не о чем написать-то
Никогда не открываю глаза-ставни
Слежу за призрачной серебряной рассадой
Отрываю по линии завтра
Но конечно всё знаю
Брюхо нежное у змеи и чуткое
Она приникает к земле а та шепчет ей
Листья трясутся жук топочет
И жутко в ступе летит погремушка-осень
Но я отгоняю их кнуточком
И говорю он конечно меня не бросит
И поэтому я составляю эти таблицы
Обнимаю полевую ежевику
Целую береговую как сверток птицу
Потому что верю он вернется
И обнимет меня сторицей
Завернет как сноп и задымится
Заварит черной травы
Выспится и никуда не высыпется
Короче говоря останется
Ты хоть слышишь что говоришь сама
Отстань от меня я слышала
У осени есть три языка три названия
Хотя какая разница
Собаки ее с высунутым языком красным
Бегут через поле как дромоман
3.
Представь, когда бы он родился,
У нас сейчас бы было трое,
Иван собачий побратима
Имел бы щучьего сановного.
А я была у душеведца,
Он взял твоих волос из детства,
Потряс, поворошил, потряс их –
И я увидела как раз его.
Он так стоял средь мхов и кочек,
И темным солнцем власья-лучики…
Отдай мне звездного сыночка,
Верни теленочка заблудшего!
Во сне он ходит, щиплет колос,
Постольку он живет, поскольку, -
И вот, когда я спать готовлюсь,
Всегда кусок на крынку ложу.
А ты чего-нибудь кладешь
На черную его головушку?
В последний год не снится больше,
И мы вдвойне теперь сиротушки.
4.
Я твоя птица
Ночью ухо прикладываю к рельсу древа
Колесо судьбы стучится
Как сердце как ветра одежда
Ну говорю слышишь меня сердечный
А я во поле вышла сняла с себя всё
И стала ласточкой обледеневшей
Огненной летящей искрой
А я стала речью ветра
Смотри гнездо у меня в руке переметное
Всегда нахожу я ответы конверты словно
Ты старый и мудрый
Словно я монахиня кукушка заутрени
Но таких не берут ни в какие обеты
Куст порченый рубленый
А когда ты приедешь
Я натоплю тебе баню на грудном молоке
Выпарю тебя с березовыми волосами
Мы встретим ужа что живет под каменным основанием
И слепой подходит к руке
И ты увидишь что я тоже березовая кровь и смола дуба
Знаю всё это тебе не нужно
Не нужно лесорубу
Ухо его глухо обрублена половина
Сердце его неумолимо
А иначе какая была бы в нем ценность
Если бы было в нем птичье сердце
Кто бы стал за него молиться
Писать безумно и тесно
Говорить мой отец отворись
Птица об лед бьется
Об воду не бьется
5.
Не хочу быть никем –
Мать-осень, меня укрой.
Буду помнить только добро,
Не буду матерью, женой и сестрой.
Буду девочкой малой у твоего колодца:
По сусекам звездного соберется,
Трава на паштет Сюзерен растет все,
Одиссей вернулся из трой.
Тысячи путаных твоих историй
Заварим в лесном омуте.
Она спит, и лисой становится,
И оказывается дома.
Волчий зуб – ее талисман молочный,
Ты все вспомнишь, если захочешь.
Луна – зеркальце в ее подоле,
Его голос – шепот ветра, не более.
Ты во мне никогда не умолкнешь.
Мы с тобой пойдем, пойдем
По указателям золотистых листьев,
Сквозь них кровь не сочится,
И смыты следы потемок.
Мы найдем наш дом оранжевый,
Не умещающийся ни в одно стихотворение,
И, наконец, обрящем
Все туманом забранное и потерянное.
Когда-то я тоже была ивовым деревом,
То есть девушкой, припоминаешь,
Я и сейчас склоняюсь к тебе, поверь мне,
Тропа окропленная, листва дымящаяся,
Я и сейчас – а ты помнишь ли?
Соберитесь, все звездочки и травинки,
И хвост лисий, и снежные соломинки,
И сложитесь в наш детский шалашик, сложитесь
В домик из ладоней, в дорожки гусиные.
Песни и вздохи на родном языке
птицы из забытого
я слышу идиш
и лечу в некогда певучую рощу,
ныне вырубленную и безгласную.
я пою на идише,
даже если не понимаю слов до конца,
но интуитивно нащупываю ветви и корни,
окончания, суффиксы, листья, росу.
я дышу идишем,
плачу с ним,
зову птиц, перекликавшихся когда-то
в чащах больших городов
и рощицах местечек.
я припадаю к отеческим могилам,
и они отверзаются,
и живые птицы-души восстают из них,
не страшась ни гетто,
ни лагерей смерти.
я большая белая птица
с опалёнными грозами былого крыльями.
моим птицам суждено было пройти путь из Орши
до ворот, где им отказали в покровительстве,
но позволили на отшибе вить гнёзда
и запретили петь на родном языке.
ночами птицы слетались к камням,
где выкликали род,
выкликали себя,
кричали и ухали,
нарекали птенцов,
чтобы песни и имена не исчезали
из памяти Израиля.
после Айги и Гофштейна
(колыбельная для Марии)
когда я тебя узнала,
все поля стали имени тебя,
хранительница пространственной тишины.
еду ли я полем заснеженным,
его безмолвие отзывается твоим именем.
белизна и горе (не)русских снегов
рифмуются с твоим смыслом
и загораются твоими отблёскивающими понятиями.
то бредёшь с посохом по грудь в молоке,
то на убогих скрипучих дрогах тащишься к хутору,
всё равно нескончаем твой путь:
ни хутор, ни деревня не ждут:
нет Руси, где весело, вольготно живётся тебе.
я огнями глаз поезда неотступно слежу
за твоим маленьким проваливающимся шагом,
а моя южная скорбь питает воздух,
не пытаясь растопить сугробы.
я дорожная тень,
утешение наполняющей пустоты.
Ай-ли-ли-льли,
льли-лю-лю.
над волнами
Льву Лерману
я видела птиц, что плывут в надволнии,
в поднебесье,
под небом гроз
и над волнами чёрно-серых бурь.
их может догнать коршун,
их может закружить ветер,
они стремятся в обетованный мир,
размётывая крыльями тучи.
в глубинах вод их подстерегают акулы,
часовые океанов,
в багровых зорях поджидают соколы,
демоны в пёстрых мундирах.
птицы слабеют, теряют волю,
становятся неспособными к сопротивлению,
тогда они падают в воды
на расправу акулам,
или их ловят в полёте соколы.
немногим суждено найти благодатную землю:
те, что долетели до неё,
тоскуют о покинутых гнёздах,
но лететь через океан страшатся,
ведь могут вновь попасть в капкан
меж волнами и небом.
но находятся и те,
что не боятся возвратиться в галут,
в места изгнания,
чтобы строить обещанный рай на родине,
пусть они и не называют родиной
враждебные пространства,
породившие их земные оболочки.
я наблюдаю за птицами больше полутора лет:
они плывут, шагают, летят и бегут
во всех направлениях,
гибнут, разбиваются,
но продолжают двигаться
к достижению земли обетованной.
стойких встретит однажды заря,
не багровая – мирно розовеющая.
на горизонте после многих лет океанской пустыни
вырастут храмы и дворцы нового мира,
но где он – не знают даже сами птицы.
☯☯☯
Книга лежала
на складе «Вайлдберриз»,
потом её сняли с полки,
пару раз уронили,
что запрещено законом,
упаковали в рвань плёнки,
швыряли по машинам, клали на неё тяжести,
что тоже запрещается –
она должна лежать наверху и не перевёрнутой,
чтобы было видно надпись:
«с комментариями р. Гирша».
А потом человек,
только вставший на ноги,
научившийся читать одновременно с трёхлетним ребёнком,
получил заказ
и написал в праведном гневе отзыв:
«Эта Книга не может приходить полураздетой,
истрёпанной, как проститутка!»,
и поставил одну звезду.
Ему ответили через сутки
из Швеции:
«Уважая демократический закон
и свободу выражения мнений,
мы разрешили сотрудникам склада,
у которых священная книга отличается от вашей,
не упаковывать подобные заказы.
Прикосновение к вашим ценностям
оскорбляет достоинство национального
и религиозного меньшинства.
Мы толерантны ко всем вероисповеданиям,
поэтому позволили своим гражданам
сжигать книги,
ведь человек рождён свободным,
верно?»
Ему ответили через два дня
из Ирана:
«Ты не один, кто пострадал
от беспредела на «Вайлдберриз».
Встань с нами в один ряд
и будь готов подняться в бой
за веру предков».
Всем им ответили через три дня
из Израиля:
«Мы часто заказываем на «Вайлдберриз»
подсвечники,
молитвенники,
талиты,
но ещё ни разу нас так не оскорбляли.
Мы требуем закрыть склад,
где смели надругаться над Книгами,
и расформировать преступную
псевдодемократическую систему».
Человеку ответила маленькая девочка
из России:
встала в субботнем платье
перед посольством «Вайлдберриз»
недалеко от метро «Ломоносовский проспект»
с плакатом:
«Руки прочь от наших заказов!»
Ей ответило через минуту пламя,
долетевшее из Швеции
и отголоски бури
из Ирана и Израиля.
А человек поцеловал опоганенную Книгу
и поставил на полку
подальше от остальных заказов
с «Вайлдберриз».
поминальная молитва
памяти членов Еврейского антифашистского комитета
Я оплакиваю вас всеми буквами алфавита
Хаим Граде
в могиле невостребованных прахов
свой Вавилон,
как в плавильном тюремном котле страны советов.
всякий зачерпнул из котла ложкой по вере своей:
кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз
угодила свинцовая ложка.
полукруг гранитных плит
стягивает мысли обручем.
если бы они могли каждому надеть железный обруч
на голову,
на язык,
на руки,
на сердце
на память,
на песню…
«Горе тебе, город крепкий».
оковы падали со свободных духом.
предупреждал Дер Нистер,
не успел Целан.
когда я отыскивала вас за пеленой дождя,
меня провожали ознаменованные могилы.
«быть может, они не умерли насильственной смертью?
быть может, их проводили?
быть может, по ним читали кадиш?»
быть не может, что от имён и лиц,
от стихов и песен
остались горстки пепла.
быть не может, что так легко
обезъязычить вперёд на век.
год назад сюда несли венки,
здесь произносили речи,
а сегодня над вами
не звучало ни одного родного слова.
вы отцы мои,
так позвольте же вас отпеть,
отчитать.
мать моя, с птичьим именем Чайка
и изогнутой, как клюв, двойной фамилией,
не дай упустить тебя.
не скоро увижу миньян за спиной.
одна, по наивности, отделяюсь в сбивчивый лепет.
пока старуха рвёт сорняки,
я прошу за вас,
чтобы в заслугу переведённых мной стихов
вы пребывали
в безопасном месте.
рука ходуном по камню.
Граде пора бы выступить из-за колумбария.
земля оплакивает вас всеми буквами алфавита.
я земля,
я порождение её, отойду в её лоно.
я корабль,
ковчег, изымающий ваши имена
из могилы невостребованных прахов.
Спи, дитя моё
Томасу Фрицу
Спи, солнца сын,
кудрявый вестник мая,
остро-летящий, как струна,
золотой, как звук.
Этот год принёс слишком много смерти.
А мне бы надеть наушники
и услышать живой голос.
Каково было видеть
беспомощную седую лунь твоих
клочковатых волос.
Закроешь глаза –
а ты неспящий:
и снова прожектора, снова свободолюбивая
мирная Германия,
фестивали, юный скрипач, пахнущий пшеницей
и дешёвыми сигаретами,
и ты, горячий, как ветер с полей,
киваешь Эрику и ударяешь
по струнам, воскликнув: «Das jüdisches Tanzlied!»
В последнем интервью я почти не разбирала слов.
Немецкий не мой мамелошн,
а с идишем – zejer troerik – смертному
не купить билета.
Ты бормотал что-то про жизнь,
про возрождение утерянной культуры,
а речь почти сливалась в одно пятно,
а руки с кружкой нервически плясали.
Кто может связать безобразную маску старости
с бескрайней молодой песней по ту сторону экрана,
тот приближает небытие.
Спи, дитя,
годящийся мне в деды праведник,
чей портрет на моей стене
рядом с фотографией короля Мошиаха,
умершего обычным человеческим способом,
ушедшего по звёздной дороге.
Тебя тоже встретил этот ясный
проторённый путь
и этот кроткий человек,
пусть ты даже не еврей.
Вы шли к сцене вдвоём, говоря на одном,
он на родном, ты – на любимом языке.
Я не была в раю,
но представляю, что это большая фестивальная сцена,
шумная, как синагога в дни фарбренгена.
Усни в земном теле, но пой в веках,
тревожь нас майскими недолгими ночами,
промелькни в толпе
на концерте фолк-группы,
отзовись в стенах студенческих общежитий
перезвонами гитары,
чтобы я шагала в такт,
перестукивая по всем перилам костяшками пальцев.
Музыканты и святые живут,
пока на алтарях не тушат свечи.
Дочь заповеди
до двенадцати лет,
до шестого класса,
я ходила в школу только в юбке.
теперь на пары обычно в брюках,
а в шул в юбке всегда.
24.07.2023 –16.02.2024
☯☯☯
Писчебумажное, мокрое, синее как печать
в справке о смерти; будет гноиться — сплюньте:
желтое по краям — режет — хочется помолчать,
как холодное мясо в осеннем грунте;
произнеси я сплю: каждое слово слизь,
тянет другое, тянет вязкий песок из горла
в ниточках крови — значит, строчки не удались
где-нибудь в мозге и превратились в свёрла;
будет гноиться — сплюньте: произнеси я сплю:
каждое слово слизь, мясо в осеннем грунте,
в справке о смерти сам себя умерщвлю,
сколько песка осталось в одной секунде,
в ниточках крови, синее как печать,
писчебумажное или в мозгу сновидца,
каждое слово хочется прокричать,
чтобы осуществиться.
1980
☯☯☯
Жерминаль: я неловок и жалок,
хорошо и не страшно в лесу,
из пудовых бетономешалок
льет эмалевым за полосу
насаждений вокруг теплотрассы
или схемы электрореки,
где 0.5 и колхозные массы,
и пословицы, и башмаки
из резины, какие-то вилы
и фламандское что-то, да брось –
мы с тобою не фландриофилы,
оттого в Парадизе пилось
и мерещилось (вскрытие, ящик,
сапоги по размеру, брюмер).
Неужели я, брат, настоящий
и скончаюсь в РСФСР?
1980
☯☯☯
Снег это царство, снег это мясо на копьях берез,
рощу полос переверни, как снимок,
топчет ботинок, снег говорит «цирроз»,
словно идешь с поминок.
Что говорит метель? В царстве его нашли,
грусть уводила в лес, лес уходил к больнице,
и гнилая луна изворачивалась в дали
за спиной у милиции.
Не отпевали рук, розовый цвет в глазах,
розовый рот (закат розов при −40),
в небе путает труп, в самых его низах,
где-то у райских створок.
Не отвечает снег, что передать ему,
желтая врет луна, вверх по отвесным рекам
кто-то плывет во тьме и вопрошает тьму:
связан ли цвет небес с умершим человеком?
1979
☯☯☯
Окраина, дорога как визига
извилиста, разварена, вези-ка
домой меня, начальник, самосвал
буксует, понимаю, выпивал,
скорее пил, скорее был нетрезв,
скорее счастлив, стало быть, как Крез,
лидийский царь, да черт с ним, здесь направо,
а что поделать, родина, держава,
империя, я знал его отца,
домашнее, в осадке кислотца,
Татьяна, дочь буфетчицы, бывало,
да бог с тобой, как ангел целовала,
завязывай, пустая болтовня,
по-глупому, ну да, не от меня,
притормози, вот здесь, у райсовета,
я выйду поглядеть, как до рассвета,
дай папиросу, стелется туман,
бывай, во дни гоненья талисман
тебя храни, уже редеет сумрак
и дерево похоже на рисунок
в студенческой тетради по рус.лит.,
но это ни о чем не говорит.
1979
☯☯☯
Сравнение заката с рыбьей кровью,
§ ночь, стр. 38,
см. усталость, облачность воловью,
от вспашки неба рухнувшую оземь.
Все это не к добру, как выражалась
сивилла, я лежал на талом снеге,
она ко мне испытывала жалость,
когда в моем пальто искала деньги.
Немеет ум от переохлажденья,
сравнение луны с бельмом гаргульи
откроется, я пил напареули
и проходил сквозь древонасажденья.
Замерзнуть здесь, лицо туманом вымыть,
стучит трамвай, завод грохочет трубный,
и снег вокруг сиреневый и трупный –
такая смерть, что лучше и не выбрать.
1979
☯☯☯
Россия, Азия Минор,
ты носишь змеевик,
я захожу в твой темный двор
и вижу темный лик
Казанской, Иверской, любой
языческой, морской
и той, что пела про любовь
на Автозаводской,
зимой, в индиговом платке,
все думая о том,
как много ужаса в гудке,
почти Иерихон,
почти зеленый коридор
и хлорка, и луна,
Россия, Азия Минор,
а чья вина?
1974
☯☯☯
Глаза колодезной воды
уже полны, уже кромешность,
уже разомкнутость звезды
напоминают мне, что внешность
твоя потеряна во мне —
сплошная ночь, туман, размытость,
я мог бы выпить или выпасть,
второе точно по вине
своей: не думать и не выть
куда заманчивей, чем быть,
существовать, носить усталость
в душе, а что еще осталось —
тупая боль, унылый вид,
нет языка, есть алфавит,
где даже «л», как оказалось,
не удержалась и язвит.
1978
☯☯☯
Не спрашивай тогда уж, отчего
мне нравились растения всего
на свете больше – может, бессловесность
меня влекла, когда я видел местность,
едва пересечённую врачом
больницы, где я сам пересечён
был скукою, шеллачною микстурой,
отравой-темнотой-температурой,
и снились мне, сплетённые со словом,
растения в растворе марганцовом.
1979
☯☯☯
надрез воды оттенка винограда
во рту реки мне этого и надо
глаза темнее ярче огоньки
ого ого водою бритый череп
облить и сразу перепрыгнуть через
........................... в конец строки
жаль к языку прилипли мотыльки
я зеленел мерещилась листва
остыла кровь я научился ква
и ууур нет это сложно на письме
всё передать к болоту в полутьме
не подойти у лилий невесомых
я не жалел мальков и насекомых
как будто бы я в чём-то виноват
обмазан слизью кожей роговат
соседствуя с морковью сварен в супе
не кем-нибудь ребёнком из кружка
биологов в амфибиевом трупе
в мускулатуре в мясе лягушачьем
на свёкле как на облаке лежащем
ещё видна механика прыжка
1979
☯☯☯
Деревья прочь, а с ними темноту
Я буду прыгать сразу в пустоту
Я не играл, мне нравился остаток
Но он в уме, додумаешь, сочтешь
Добавишь 0 и выпадешь в осадок
Как будто что правдивое прочтешь
Внутри спирали бусинки, рыданья
Я эту боль, не ведая названья
Уже познал, зачем оно, словарь
Когда бы я исчез из мирозданья
Ваятель слов, обыденная тварь
Ползущая на брюхе в назиданье
1979
☯☯☯
Стихи мертвы, поэзия мертва,
я собираю мертвые слова –
мне самому пора бы умереть,
и я беру зеленую тетрадь
апатии, на дерево смотреть,
на разные деревья, выбирать,
в какой листве отсутствовать, и в морг,
мой дар убог, и голос мой умолк,
я к облаку повернут восклицать,
как знак ¡
мне больше нечего сказать.
1980
☯☯☯
посв. с. с.
бог меня постелил где пониже и света поменьшея расту всем солёным и кислым съедобным и сытным
мне удалось тем не менее
поднять глаза
а ты словно мутация ты особенная макушка сосны –
я тебя не вижу даже примерно но я смотрю на небо и представляю что ты растёшь туда
и что ты скорее всего
слепая
прозрачная совершенная цветная
вода земля линия поперёк меня
кто бросал камни в воду знает
что это другая вода
что в ней остаются дырочки
да каждый зверь теперь
еду свою найдёт
и каждый влюбленный корень
найдёт влагу
а я найду тебя
в своём следующем перерождении
когда буду макушкой сосны
а ты
всем вокруг макушки сосны
ты меня увидишь во всей высоте
и ты подумаешь
что может быть важнее
чем слепая макушка сосны
что может быть точнее
и особеннее
чем макушка
сосны
ВИТРАЖ
1
я полечу, витражи в тёмной комнате каменной
все окна разноцветные и светло снаружи
и только они одни цветные
а остальное уже почернело иссохло просто умерло
остальное умерло а они как сто жуков скарабеев
как стёкла у моря в египте через очки
через парео
2
вот они как будто я сама их красила
красила витраж
мне так плохо когда я думаю про витраж
всегда он есть только под куполом
я хочу чтобы я жила и лилась вода
вокруг меня а сверху витраж
только бы не увидеть тот самый бассейн с мутной водой где плавают кусочки... чего-нибудь...
там одна лампа горит и в ней мухи
господи мухи
3
отблестел
целый дом
4
пожалуйста дайте мне раскрасить витраж
или посмотреть на витраж
или посмотреть на свою руку на которую попал цветной блик
или посмотреть на фотографию
где на чью-то руку
попал этот блик
хоть я и понимаю что все витражи бог
приготовил для меня
☯☯☯
из меня полезут углы
из воды побегут рыбы
крылья рыбы-пилы
точно также кромсают небо
я скажу за других
так что тут уже разницы нет
это стих
или свет
земля
можно задать вопрос
это стих
или след от угля
раковина
посв л. л.
я любила такую раковину
и я к уху её прикладывала
и я к сердцу её прикладывала
и спала по ночам в обнимку с ней
а она мне шумела ласково и во сне мне лицо царапала
дорогая морская раковина я проснулась и долго плакала я проснулась и нет тебя
я тебя не ищу и не жалуюсь
я просто тебя запомнила
у меня под ногтями песок
☯☯☯
я приглашаю тебя
попить из чёрточки в букве й
нечего тебе делать с этими дураками
я приглашаю тебя
соединять точечки в буквах ё
а что могут они кроме как развести руками
я приглашаю тебя
дёргать за хвостики ц и щ
и что после этого
ты назовёшь любовью
☯☯☯
снег или свет нет разницы он белый
летит и отражается, ко мне
и сколько нас таких
вот так летело
землёй и сном дышало
пол
полёт
я вижу все слои я вижу крылья
я вижу тех кто нам судьбу плетёт
и нити их покрылись белой пылью
такая пыль
опять ко мне летит
и с ней мгновение летит и тает
остановись
мне нечем заплатить
☯☯☯
пока ева
яблоко ела
некто забыл о прощении
запутался и затаился
☯☯☯
мне нужен какой-нибудь
с длинным лицом
и пиратской ногой
или мне нужна какая-нибудь
фея размером с муравьиный хуй
нет я никого не ищу
я помолвлена моих невест зовут
стрелка часовая
и стрелка минутная
однажды я их целовала
но в темноте перепутала
пусть и ходят ко мне седые младенцы-беззубки
просят научить плеваться
пусть и ходят вокруг меня принцессы-безумки
ищут с кем бы поцеловаться
а мне хоть бы что я песню пою:
«жили были подружки змея и лягушка
пошли они вместе гулять
забыла змея что лягушка подружка
и съела. прогулочка блять»
☯☯☯
сегодня именно тот день
когда я буду это делать
: стоять навытяжку в углу и говорить свободу мне
свободу всем живым на свете
всесветный воздух прогонять
по всем невидимым каналам
и губы к пеплу прислонять
да!
потому что
сегодня этот самый день
когда я нравлюсь детям и собакам
когда эмпаты
считывают меня как ласкового человека
и короед
ползёт вверх по штанине
приняв меня
за дерево
и облако
без смущения мимо летит
приняв меня
за небо
ПОКАЧИВАНИЯ
Серпящийся факел, зажженный на радость преодоления леса, превозмогая несолнце, захлебывается в истончающейся рыбной способности задуваться, как барахтающийся в фондю неба откормленный неполумесяц.
I
Мир возвращается к тишине.
Птиц непереловленная череда пунктирит хребет.
Привязываясь ко мне, мой сон
Напоминает заброшенный в сноп
Серпок
Надломанного пространства.
Здесь герметичен Пикассо,
Как скафандр Нил Армстронга.
Кубик смыл азбуку,
Герменевтичную руку Стронга,
Проигравшую в рестлинг,
Свечку, краснеющую в углу,
Демократичный Конго,
Геометричность денег,
Воскоподтеки,
Васко да Гаму,
Иного блюстителя Индии
Или, если угодно, Бхарата,
Иоанна Крестителя, видео
Безоружейной палаты,
Гернику двадцать первого века,
Первого человека,
Адама и Яхве.
Под санкции попадают, как дротики, лондонские дома и яхты.
II
Мир возвращается к тишине,
Выглядывая из-под шляпки непромокаемого безе
Термоядерных катастроф, желтковатых слов,
Выделяющихся особо на фибре огнеупорных дождевиков,
Запоминающихся, как Джейн Доу, Джон Сноу,
Как разлитый джин и молчащий кинематограф:
Спектр забвения пересекает редеющий горизонт фотонов.
Мир возвращается к тишине.
Во мне
Обнаруживают снаряд,
Обскура-аппарат,
Полукруг, пинцет,
Гавайские плавки,
Пуговицы,
Отколовшиеся от пальто антарктидной льдиной,
При прочтении он оказался точкой, пунктиром,
Разобранной речью Морзе.
Либо несоответствие с плотью теряет наверняка
Корабль присутствия,
Либо же плоть перемещается возле
Тайного самоповтора.
III
Мир возвращается к тишине.
Увеличенный человек, который,
Выступая из линзы, становится неприглядно-мелок,
Возвращается в лесопарк подкармливать допотопных белок.
Как на тысячах лиц, растянувшихся в одного,
Отрывают взгляд-страницу календаря,
Так немеющим складкам моря благодаря
Балансирует призрак,
Сервируется на каемке рыба
С белеющей долькой лимона.
И никого нет дома.
Больше здесь никого не осталось.
Чернеет мясистый палец.
Сладко дышит на лунной поверхности долларовый американец.
IV
Мир возвращается к тишине.
Изнутри вовне
Накаляется порох, чеканится декупаж воды,
Отскакивает навзрыд
Разоренная почва.
Диагонально, как искаженный гриф,
Распространяются круговорот и миф,
Облицовка — мрамор.
Кажется, будто вчера я смотрел на мир,
А сегодня он возвращается к тишине
И, беззвучный, тает,
Покачиваясь во мне.
Он, беззвучный, тает.
17.10.23
Перевод — Л. Горн
Снег
как плод неназванного поля
умерла синяя птичка
Холодно‐холодно то, что будет
чтобы прикрыть мертвое тело
небо рассыпало снег
Глубже и глубже молчание мира
люди, которые о птице не знали,
вместе с домами стояли
Белая‐белая была их одежда
но наступившее вскоре утро
прояснило небо
Синее‐синее теперь оно стало
и маленькой чистой Души
к божьей стране путь
Широко‐широко протянулся
Луна и ракушки
В чане с синей краской,
со временем,
белая ткань становится синею
В синем море
всегда лежащие,
отчего белые ракушки белые?
В небе закатном,
вечером,
белые облака становятся красными
В синем небе ночью
покачиваясь,
отчего белая луна белая?
Край моря
Облака появляются там,
и кромка радуги там остается
В один день я мечтаю отправиться в лодке,
до края моря мечтаю доплыть
Но так далеко, что уже потемнеет,
и я ничего не увижу,
попробую сорвать красные ягоды с веток
и сосчитаю упавшие в руки звезды,
до края моря мечтаю доплыть
Лодка засыпает
Лодка, вернувшаяся с острова, устала ли ты,
в бухте волны укачивают так нежно,
тише и тише, усни, засыпай
Позади бескрайнее бушующее море,
ты вернулась, нагруженная рыбой, теперь,
маленькая лодочка, засыпай
Скоро вернутся жители острова,
и тогда ты поедешь, нагруженная свежей зеленью,
ты поедешь с тяжелыми мешками риса.
Но пока, вернувшаяся с острова лодочка,
в нежных волнах покачивайся -
тише и тише, усни, засыпай
Золотая рыбка
При движении луны среди туч
пробивается ее луч,
мягкий, странно знакомый свет
Когда ветер колышет цветок
появляется аромат,
чистый, цветочный запах
Каждый раз, когда проплывает рыбка
из ее рта, как в той старой сказке,
сыпятся драгоценные камни
Большое Небо
Я мечтаю однажды отправиться в путешествие,
туда, откуда видно большое Небо.
В городе вижу только длинное небо,
река млечного пути тянется между крыш.
А мечтаю когда нибудь, всего на один раз…
Вниз и вниз по его течению буду идти,
пока не выйду туда, где начинается море,
туда, где можно просто поднять голову вверх
Души цветов
Души опавших цветов
перерождаются в райском саду,
все до одной.
Как же иначе, цветы так добры,
ведь открываются, улыбаясь
по первому слову солнца,
всегда дают бабочкам сладкий нектар,
людям столько запахов дарят,
еще - простодушно клонятся к ветру,
куда бы он их не повел,
и - потому что жертвуют свои останки
для игр малых детей
Дерево
цветы осыпались,
плоды созрели
потом плоды упали,
и листья опали
и снова другие ростки
расцвели
интересно,
сколько раз дерево
должно сделать круг
чтобы спастись
новые стансы к августу
tempora et mores суть
тёплое море, плывущее
через тернии к звездецу
кровавого глобализма
маё сонца, усё дарэмна
всё даром непостижимо
недостижимо
и пусть никто не уйдёт обижен
remember i told you about love
luboff'
как её хорошо разметало по асфальту
взрывами спелых и сочных гранатов
всё от любви
до ненависти
всё к худшему в единственном
из имманентных миров
pamiętasz jak piliśmy wódkę
как мне впервые обожгло глотку
думала, что пью острую лаву
а на деле пью горькое горе
на лысой горе
я не маю права говорити правду
и потому лежу в тишине на спине
с прибитыми к доскам ладонями
намертво зашитым ртом
и уксусной губкой в горле
молча глядя в свинцовое небо
и ожидая падения лезвия
la guillotine
упырица
страшно
чувствовать себя живой
спустя девять лет смерти
странно
страшно
ощушать биение сердца в груди
спустя столько лет
странно
страшно
глядеть в пустой космос после грозы
и ощущать тёплую влагу звёзд на руках
странно
страшно
спустя девять лет сна проснуться
и прорасти льном из-под замшелой земли
странно
страшно
открывать глаза поутру и не видеть
прогнившей доски над собой
странно
страшно
увидеть своё отражение в зеркале
а не на портрете в венке из кувшинок
странно
страшно и странно
дышать, гнать, бежать, смотреть
сквозь пальцы прямо на смерть
спустя девять сонных лет
подземных и дохлых лет
страшно и странно
☯☯☯
где я была
девять лет назад
ну, например, училась
неудачно влюблялась
сорила башку ненужным мусором
вроде любовных страданий
и поэтов-традиционалистов
где я сейчас
девять лет спустя
ну, например, учу
неудачно влюбляться
сорю чужую башку ненужным мусором
вроде литературы для технарей
для тех, кому это совсем не нужно
равно как мне — методики преподавания
русского как иностранного
☯☯☯
мама мне говорила
ты слишком любишь всё усложнять
ты слишком умная
и не от мира сего
любишь витать в облаках
с такой всем будет сложно
я вспомнила это
когда читала поэтику феминизма
наткнувшись на стихотворение
оксаны васякиной
где она говорила что стихотворение
это не то где нет ни одного лишнего слова
это рана на бродячей собаке
и я в принципе с этим согласна
стихотворение
это одна кровоточащая рана
а ещё у оксаны васякиной
дебютный роман так и назывался
рана
следом за этим мне вспомнилось
как в универе
один косоглазый профессор
рассказывал о леониде андрееве
писателе серебряного века
с[е]ксе своего времени
его душа была как раз
кровоточащая рана
он крепко любил свою жену
а когда она умерла то завёл вторую
жил на своей даче в финляндии
и так горевал что написал
сказ о семи повешенных
красный смех
стену
бездну
дневник сатаны
и кучу всяких жутких вещей
типа франсиско гойи
жутких по меркам сервека
а ещё мне интересно
можно ли назвать меня
одной кровоточащей раной
потому как все слова у меня лишние
я так думаю
может быть усложняю
слишком много думаю
и потому со мной всем тяжело
мама так говорила
☯☯☯
ты говорила, этого города не будет
и меня не будет тоже
точно так же, как не было детства
и воспоминаний о нём же
но ведь это не так
ведь что-то же было
(что-то — уже не помню)
где я сейчас
или что-то вместо меня
помню какие-то отдельные слова
фразы
предложения
абзацы
тексты
ты говорила
«я безумно любила тебя»
и добавляла
«любовь, которая есть ад»
а больше ничего и не помню
мозг точно выпотрошенная рыба на берегу
доедаемая крабами и чайками
на стеклянном песку
может, это делирий
который длится
то ли с 2012-го
то ли больше двадцати лет
может, на самом деле
меня больше нет
и никогда не было
и всё, что меня окружает
мне
попросту
снится?
Анастасия Белоусова: Бегония
☯☯☯
осенний лист как дрожащая губа
просит о чём-то
и кошка дрожит как осенний лист
☯
кошка это определенный мышечный тонус
правила сокращений и выгибаний
костей обниманий
ленивых ласканий
мёртвая кошка состоит из дерева
поэтому
как плоть к плоти
так и древо под древо
☯
впервые осталась дома совсем одна
и даже без кошачьего трупа
странно без кошачьего трупа
как я теперь без наполнителя в постели
чем теперь заполнить душу
я создала пустоту возле дерева и заполнила её
так хотела оставить что-то от себя
(ты оставила плед)
нет я не оставила плед
на память не дать ничего биоразлагаемого
оглядев дом и не узнав его поняла
глаза
☯
мёртвые коты это хтонь
но моя-то живая
огромная кошка мурчит за моей спиной на остановке
лижет мою голову шершавым языком
поэтому на ней бардак
бардак на голове есть отражение бардака в голове
его предстоит разобрать
чтобы новый мир природнился
нужно время чтобы смирИться
смИриться
мироваться
☯
каждый день снятся кошки
найдёныши или те за кем просили присмотреть
каждый раз думаю ну вот этого точно возьму
рыжего
или коричневого
или в пятнышко
каждое пробуждение знаю когда это закончится
когда по ту сторону (твоей головы) кошка
выберется (из пледа)
отряхнётся сонная
и пойдёт искать мышей
сущность бедра
нельзя увидеть внутреннюю сторону
человека
в смысле смысла
мыслеформ намерений
нельзя увидеть внутреннюю сторону
смерти
программа зрение
установлена
в операционную систему жизни
можно увидеть внутреннюю сторону бедра
и не только увидеть
следовательно сущность бедра ещё как-то можно постигнуть
☯☯☯
куда войти чтобы выйти в эсхатологию
достаточно ли в переполненный автобус
где сливаешься с другими потными людьми
настолько одинаково неприятными
что кажется они делятся мейозом
не открывая при этом клеток голов
все пассажиры серое вещество
ползущее по городу в очень нервной клетке
выйду ли я в эсхатологию если войду в резонанс
с вибрациями клитора клеопатры
до сих пор содрогающими землю
распугивающими аллигаторов и зелёных попугаев
доходящих до центра земли отталкивающихся и вылетающих насквозь в космос
чтобы потрепать внеземные цивилизации
закричать им да это я кончила
может выход в эсхатологию находится в пространстве времени
каких-то часах огромной башне и бесконечно замедляющихся на чьей-то руке
текущих до локтевого сгиба и прорывающихся в шприц чтобы гипотетически пережить своего носителя
в будущее
одно ясно точно
если не выходишь в эсхатологию значит идёшь в пизду
значит выход твой там же где и вход твоё таинство
если не выходишь в эсхатологию значит идёшь на хуй
значит пик твой достижим и невысок но блаженен
только в жопу не идёшь если не выходишь в эсхатологию
жопа странное направление
в ней одностороннее движение
жопа не связана с зарождением разума
быть может?
☯☯☯
мой немой мизинчик
зачем же ты немеешь
до макушки немощь
тишью разливаешь
вдруг окостенеешь
и остеклянеешь
дзынькнешь как хрусталик
звоном обратишься
солнце минус десять
сердце минус тыща
как душа успела
столько задолжать
☯☯☯
когда выкипают чувства
остается соль
добавь воды
и у тебя всегда будет море в кастрюле
☯☯☯
1284
возвращать гроб господень
дети уходят
исчезать тенью в полдень
дети уходят
за лучшею долею
дети уходят
за сном под горою
дети уходят
возможно
детям
не нужна и причина
чтобы уходить
☯☯☯
Ангел бьёт кулаком и мотор начинает работу
Открывает глаза пропустивший один оборот
И вдыхает январь как подвальную горькую рвоту
Налегает на крик и шестую октаву берёт
Снег лежит и летит, всё в снегу, снег сидит на деревьях
Потому-то нет места для птиц в этом чистом мирке
Он идёт, а они улетают со снегом на перьях
Говори — я хочу видеть снег на твоём языке
Оглянись в этот свет, в этот сон, где ты падаешь в реку
Пробиваешь, как бур, её лёд или бьёшься о гладь
Ты проснёшься, а окна вокруг запотели от смеха
Что нам делать с печалью такой? Даже замуж не взять
На носу Рождество, ты идёшь, доски бьются о доски
Проигравший себя забывает, что ставил себя
И живёт на Земле как в большой голубой переноске
Ангел бьёт кулаком и мотор начинает, а зря
☯☯☯
облако разрывает пасть и пытается съесть маяк
знаю я всё теряю и ладно пусть
стены детских больниц в нарисованных журавлях
запоздалое эхо на которое отзовусь
или вздрогну и отзовусь горы полны песка
до больного слышишь песчинки скрежещут в них
с острия маяка инверсия облако облака
соскребают мёртвое. дождь, весь маяк в крови
на повторах и полувзмахах искорках в полутьме
в очертаниях лиц октябрьской суеты
очень просто закрыть глаза и представить что ты нигде
и до смешного сложно что ты не ты
скоро город в котором проводники сойдут
мы останемся здесь смотреть на чужой пейзаж
станция молча ждёт пока её назовут
анна пешком поднимается на этаж
«пели, но боялись сказать»
во внутреннем дворе курить нельзя
но все всё понимают было б время
на запятые праздники и сны
бензопилы техасская резня
роняет в яму мёртвые деревья —
те так же избавлялись от листвы
мне скоро разонравятся слова
затронь одно и набегут другие
закрой окно и дуть перестаёт
пусть время отмотает голова
и звякнет колокольчик на могиле
пусть снег летит пока метла метёт
☯☯☯
в слове беда ирония подмигни
если она придёт или крикни или
переверни часы без песка внутри
раньше песок в них был и они ходили
вспомни их ход, абсциссу реки, стекло
окон, фундамент комнат, границы створок
все проявлялось раньше, чем обросло
резко, как слух за выкрик до перепонок,
вдох за удар до стука, подвал, чердак,
вещи в коробках, ветхость вещей в коробках,
где как дома на вешалках и картонках
город стоит на улицах и домах
мимо идут снега и шумят ветра
листья плывут ручьи протекают мимо
копится пыль потом ее рвёт метла
долгий костёр бросает излишки дыма
в окна соседям, дети берут собак,
облако растворяется, и когда с ним
кончено, понимаешь — идёт не так
в длящемся целом нет ничего от счастья
☯☯☯
радио наша дача меня калечит
нечего делать кроме кормёжки птичек
прошлой зимой отчаливший перебежчик
скоро войдёт во двор и забьёт скворечник
будет коробка господи что в коробке
чья голова лежит и моргает горько
парадоксально скользко на остановке
семь это мало семь это много сколько
это нормально, сумерки ждут, в асфальте
вбитым столбам как бабочкам в банке тесно
метаметафористы, переставайте
метаметафористы: k0ne4n0 yes (no)
будем зимой ходить по реке на площадь
нам рыбаки дорогу в снегу проложат
там где в апреле женщина ткань полощет
ветром октябрь полощется предположим
скоро сольются утро и вечер с ночью
тьма зацветёт и станет единоличной
бег приставной трусцой не туда челночный
шаг осторожный особенный и коричневый
птица кричит в сенях ничего не видно
звёзды стоят круги ожидают звука
ёбаный год ты сдался и пал как гидра
как ни пытайся вынырнуть — тщетно. сука
клерки давать трава дед мотать копною
старое дребезжать f dm c a g
песня прервётся скоро но бог с тобою
всем она надоела намного раньше
мы всё её квадратное и густое
горький гудрон баллады и чернозём их
перенесём и вывезем в бессезонье
первым из дней засвеченных ибо чёрных
станем людьми как люди теряют лица
и наконец, меж зданием и соседним,
вывернемся, ввернёмся, развоплотимся
кончимся, сдуемся, опопсеем
☯☯☯
там, где раньше прощались, уже понаставили зданий,
заселили жильцов, всех бродячих собак извели
и пустырь безымянный теперь состоит из названий
мир не помнит о нас, но чего мы хотим от земли
жаль, что время идёт, жаль, что новые вести приносят,
продолжается жизнь, пишут книги и строят дома
ты однажды проснёшься, а в городе поздняя осень
ты на улицу выйдешь, а там третий месяц зима
зарастёт, ничего не останется, странное дело
забывать обо всём, а забыв, удивляться тоске
умирает живой, опускается то, что летело
на чужом пустыре, где теперь не проститься ни с кем
☯☯☯
как бывает до конца не узнать нам
пересчёт ведётся кем-то толковым
да и тот порой глядит на распятье
и растерян и не ведает кто он
таковы порядки жизнь происходит
ходят люди начинается стройка
хоть до Киева язык и доводит
нам идти не улыбается столько
за рекой за облаками за далью
через столько лет что страшно подумать
я успею перед тем как растаю
пнуть калитку и на изгородь плюнуть
итоги лгут
аллюзия опирается на прикол
карты врут техника не заводится
дальше из сигарет пропадёт ментол
как исчезли когда-то околица или горница
как-то обидно знать что давным-давно
без тебя несли всячку и околесицу
кололось веретено, мальчик лежал в лестницу, цой покидал группу и открывал стену
снимали документалку о тех что двупало крестятся
ради прибытия поезда машинист пропускал смену
после каждой молитвы чёрт говорит колену
боли и щёлкай, пусть он боится бога
грех в том что елена александровна вспоминает лену
чаще чем александра (грешников очень много)
мы покидаем мир, покидаем дом, покидаем залу
бросаем камни в сына того кто придумал камни
образы и подобия, обезличивание, уравнивание,
варежки, что я тебе в ноябре связала,
ношены трижды за зиму что ты всё ходишь мёрзнешь
кушать не хочешь смотришь в свою игрушку
глазки сверкают дед бы тебе сказал
…
…
мир однажды на всё поставит заплатку зашьёт разрывы вобьёт заглушку
а как же – сгорает. я ничего не знал
ничего не умел потом принесли огонь
начал уметь огонь впоследствии от огня
начал уметь кипяток золу тепло и пожалуй боль
и последнее до сих пор бесконечно страшит меня
у меня есть сердце вот оно бьёт стучит
соответственно слух ибо слышу сердечный стук
разум так как могу безошибочно отличить
сердце и уши от одного и двух
это древний разум и он позволяет быть
на краю земли захватчиком жечь дома
через год вернувшись здесь же наладить быт
на костях и спинах будто бы смерть сама
аллегория фона раб-судия-отшельник
убивая сына иван перестаёт быть грозным становясь кислым
мальчик впервые услышав что он волшебник
избирается дважды с дебаффом «дружить с уизелом»
в знании ложь я знаю в правде таится зло
в долгом стихотворении шум реки
чувствуете? видите, как сильно меня несло
смыслу и точности вопреки?
но утихает пыл, в лесу умолкает дрозд
костный мозг становится костным мхом
правда в том что всё это просто длин-нющ-ий пост
в старообрядной горнице не моей и ничего нет в нём
околесица и поклёп, пародия на свою
речь построенную на шутках из полуправд
звери на день рождения подкидывали свинью
это грех за который всем нам положен ад
я пытался закончить здесь но не даёт зудит
про свинью хорошо но плохо пора подводить итог
этим стихотворением автор нам говорит как бы да, ну и
суть его можно выразить восклицаниями эх и ох
знаете, ведь поэт занимается очень важным
…
готовы?
…
оканчиванием стихов
77°43'00" 104°18'00"
не написать на койне ни единого слова
чтобы меня ты не понял, и не сказать
на войне ни единого слова, кроме:
можно пожалуйста перестать;
окоëм водолесица
внахлëстообразные чудеса
лица, кажется, можно повеситься – настолько хорошие тут места
кажется, можно; зима, сугроб открывает младенческий рот
поедает, давится, улыбается, проглатывает живот
лес –> расступается перед нашими планами выйти в <– лес
чернеет мороз, решения и тишина набирают вес, ласточка
перестаёт быть ласковым обращением и становится птицей
выдуманный язык, стрëкот под крышами, ещё одни новые лица
поездка куда-нибудь, да, обязательно надо
я обращаюсь к тебе: коробочек захлопнулся, мы в ловушке, лапонская ездовая
растёт так стремительно, удастся ли нам её завести?
ладонь оболочка карты области заячьи ушки московская сторожевая
у меня в животе рябина, из горла расти ещё и расти
но это не худший плод; положи мне ладони на плечи, сними ботинки
без помощи рук; в северном море белеют касатки, блестят сардинки
говорят, война скоро кончится, врут, ласточка клеит гнездо из глины
ты человек, ты – человек, человек ты, а я – рябина;
собака приносит в зубах клешню, выпускает её в сугроб и лижет
тычется носом в лица, хорошая, добрая, пахнет перебродившей вишней
☯☯☯
I.
о чëм нам теперь сообщает передовица
щенок попробовал встать – удалось только
на бок перекатиться
воронëнок
вьюрок
вьюнок
между ними пытается примоститься
поцелуй: разувает ночь, бабочка
описывает
круги
у порога застыли грязные сапоги
II.
корова смотрит внимательно даже слезятся глаза
спотыкаясь со склона летит ребёнок ещё коза
что ты не едешь смотреть вьюрков и считать коров
где твои дети стадо на сто голов
оглянись
что же ты делаешь в городе
до сих пор
нам хватать под тёплые животы напуганных коз и спускать их
с гор
III.
холмы синевеют, туман, фонарик почти сгорел
стужа хватает за пальцы и тянет тебя к земле
моросит; поворачивай, до темноты бы успеть, беги
керосинка и бабочка, вон газета – под грязные сапоги
ТРИ ФАЗЫ
I.
мне снилось
велосипед я в жёлтом цветочном платье
торможу перекрёсток там где работает мама
перед этим выпила чувствую как рискую
до этого
мужчина в метро выпускает стрелу мне в шею
как точно и прямо в артерию я молодец
но я с четырёх жму на рестарт ха-ха ты меня не убьёшь
я сама тебя уничтожу
II.
мерещится
видео на повторе дышат кинжалы малиновой геликонии
видео ускоряется в африканской стране обезьяны воруют у местных
видео замедляется антилопа старается выпить целое озеро
до этого
бронтозавр-детëныш идёт к Великой Долине
дети-пингвины бегут от касаток и браконьеров
лисёнок вук разыскивает семью а находит подружку
III.
мне кажется мы
точь-в-точь белый шум «мандарин» + «проект флорида»
плывём где в море тепло нахлебаться мальков и раковых шеек
узнать как именно высохнет соль на именно этой коже
позже
увидеть цвета укуса acanthaster planci на твоих лодыжках
у обезьян своровать еду засовывать пальцы в мякоть
с удивлением обнаружить что это новые виды
снов
[ ]
закрой мне глаза надави мне на веки и я потеку по щекам
☯☯☯
линии пальцем чертить; скажи-ка, а надо ли
нам разгружать песок, чтобы познать песок?
некуда сдвинуться, чтобы зажглись огни,
вышивкой юности вдруг засиял восток.
дни перепачканы близостью ничего:
утро – погибель, комнатная дыра;
я ещё вижу маленький коридор
и за спиною стены и города,
вечность отъездов, лето – ловушку пчёл,
тело паркета, голубя у двери;
в памяти несколько звуков лежит ещё
невмоготу вспоминать, но
всё равно бери.
я ещё слышу, как исходила речь
птичьими стонами, как зацвела вода;
дом обнимал и выглядывал из-за плеч:
я тебя знаю, значит – тебе пора;
луч преломлялся и падал к тебе в кровать,
вросший в подушку, желающий немоты;
что ещё можно с собою отсюда взять,
чтобы успеть перепрятать до темноты?
☯☯☯
А. Л.
белки запрыгали вдоль реки
берег безвременник так лилов
можешь меня покормить с руки
кажется я готов
sciurus рыжие пятна шерсть
cōlchicum ночь обращает вспять
кажется только что было шесть
только что стало пять
всполохи памяти зверь прыжки
имя предплечье спина альков
можешь прочесть мне свои стишки
или погладь котов
☯☯☯
I.
под одеялом в кристаллики сжавшись
наблюдали, как за окном огромные дорожные знаки
шествуют, подпрыгивая на ножках. это не сон,
а особенность восприятия. под потолком
расползался лимонный свет, капал на
раскалённые лампы,
заставлял их шипеть. голоса
сворачивались в бумагу,
затем разворачивались в события, затем
исчезали
II.
но это неважно, а шутка в том, что из раза в раз
мысли стягиваются в одну мерцающую точку; как это глупо.
как глупо присваивать коже свойства звериных инстинктов,
нарицать названием вместо имени, только бы
не говорить напрямую. и ругать себя снова и снова,
за жалкую преданность, проигравшую
за отсутствием [ ]
жалкая, жалкая, жалкая
шутка
III.
под одеялом в кристаллики сжавшись
смеялись, чтобы не думать о чём-то своём,
пока за окном танцевали змеиные шкуры
слезами обглоданных улиц. я обещаю,
что всё прекратится, я обещаю,
что ты никогда не услышишь об этом. как это
слабо: самой себе врать, что дорожные знаки
путь указали совсем не к [ ], а к свободе
смотреть на то, как шагают дорожные знаки
мы сами виновны. и я виноватее всех,
но помни, однако, что рыжая утка смотрела на нас,
когда мы боялись просто смотреть друг на друга
прощай и до нового текста прощай и до нового текста прощай и

ПЕРСЕФОНА
1.
твердая кожура
древесная лодка
алые зерна
под белой пленкой
укрыты с головой
может быть батареи
или северо-восточный ветер
она завернута в одеяло со всех сторон
лежит неподвижно
не слышен звук дыхания
горячее дыхание постепенно
делает пространство пригодным для жизни
питательное вещество
темноты
2.
стебелек невесомый
тянется внутрь земли
она просыпается вспоминая
про мертвую кошку
та теперь живет
в серой комнате без света
наблюдает за тем как отец
дописывает книгу
3.
солнце как вор
входит через окно
перебирает предметы
сколько зеленых
миртоцветных
если что-то и пропадет
она никому не скажет
4.
в темноте твоя кожа сияет
как белые простыни
она забирается в укрытие
твоих холодных рук
☯☯☯
коллега по имени Игорь
разговаривает по телефону
спасибо Игорь
да
все нормально
как будто он сам себе позвонил
из какого-то будущего
близкого или далекого
что
серьезно?
и кажется делится
тем что случится вскоре
и я узнаю что будущее
есть
☯☯☯
ночью я часто смотрела
из окна девятого этажа
на мигающие фонари мигающие
думала что пора
выучить азбуку морзе
чтобы понять их слова
но фонари всю ночь
горели без перебоев
это ветер
деревья
хотели со мной говорить
☯☯☯
гуляла все выходные
встретила
Forsythia intermedia
Tulipa gesneriana
Taraxacum officinale
Syringa vulgaris
Aesculus hippocastanum
новое приложение
определяет растения
с точностью до вида
не могла остановиться
ползала по траве
обожглась крапивой
встречалась с другом
рассказала что по пятницам
хожу обсуждать книжки
он фыркнул
вот нечем заняться
приложение пишет
уважайте другие
живые существа
не беспокойте их
и не прикасайтесь к ним
некоторые могут ужалить
или укусить
Люпин многолистный
Молочай кипарисовый
Лапчатка гусиная
Примула Элариор
Сорбария сорбифолия
Лютик кассибикус
Полигонат многоцветковый
Аллиария черешковая
Бузина кистевидная
☯☯☯
1.
я еду на поезде городом степью лесом
сад терпеливо ждет моего приезда
в такси в мешанине пробок на лифте до самой вершины
полем и полем с мамой в ее машине
второй поворот за прудом - и воздух становится гуще
парим над цветущими травами щурясь от всемогущества
проходим сквозь облако дыма растопленной бани
между густыми растениями и домами
бабушка трижды целует куда-то в предплечье
мгновение встречи делается бесконечным
но и оно ускользает укладывается в память
чтобы однажды гвоздикой в траве проглянуть
разутые ноги щекочет зеленое море
на небе только и говорят что о чайном сборе
из мелисы и мяты растущих без папки/мамки
в клубнике малине смородине между грядок
после волнений и выпитой чашки чая
как ящерка прячусь в царстве моих мечтаний
как в ящик стола оставленного в чаще
среди золотых яблонь налитых настоящим
и расправляются плечи в резной деревянной оправе
самое тонкое дерево являет себя за правым
подставит зеленую голову под ладони
и самое сладкое яблочко в них уронит
2.
чтобы понять автора говорит гаспаров
нужно понять что значит каждое слово в его словаре
а для этого нужно выписать все существительные
глаголы прилагательные и дать им определение
сад - это 1. место о котором я думаю
когда сижу в офисе и чувствую себя некомфортно
тогда я закрываю глаза и представляю
шелест зеленых листьев
2. горний мир снизошедший на землю а может быть
и застывший где-то среди облаков и любое путешествие
в физическом мире просто иллюзия портала
3. растения объединенные местом произрастания
знакомые мне с детства которое я проводила на даче
и особенно время летних каникул
4. пространство в котором действуют летние правила
например можно грызть на улице сушеные макароны
и посыпать приправой из упаковки или обрывать листья
с садовых растений чтобы сварить компот
5. яблони на моей даче в саратовской области
которая будет продана этой осенью
потому что чинят дорогу и к ней не проехать
а питьевую воду надо возить из саратова
опять же давление бабушки нужно иметь возможность
вызвать скорую помощь если будет нужна
где яблоня - это 5.1. дерево с яблоками
5.2. мое любимое дерево от самых розовых
цветов в середине весны до красных шаров осенью
так странно на даче нет ни одной летней яблони
при тысяче тысяч попыток всегда вырастает зимняя
5.3. мифическое растение познания с которого было
запрещено есть плоды так нет же и вот так теперь
и живем
5.4. растение из греческих мифов
хранящее бессмертие в своих плодах потому
активно охраняемое но не так-то это просто когда
каждому хочется стать героем потому
5.4.1. она золотая а может быть потому что 5.4.2.
я приезжаю в осень когда листья не так свежи или
допустим 5.4.3. я прихожу к деревьям на закате и
все освещено этим светом 5.4.3.1. то есть желтым
как его отражают листья 5.4.3.2. то есть белым если думать
про его физическую характеристику 5.4.3.2.1. когда он включает
в себя все возможные цвета (на самом деле не знаю корректно
ли так сказать я не очень хороша в физике
хотя именно ее сдала лучше всего когда
поступала в аграрный универ (об этом даже есть забавная история
когда я неделю живу на даче и читаю учебник физики
и решаю все эти задачи а потом поднимаю яблоко с травы
мою его задумчиво ем а огрызок
перебрасываю через забор и в секунду его полета
думаю о силах которые на него действуют
(5.4.3.2.1.1. сила тяжести (сила, действующая на любое
физическое тело вблизи поверхности астрономического объекта
(планеты звезды) и складывающаяся из силы гравитационного
притяжения этого объекта и центробежной силы инерции
вызванной его суточным вращением.[...] в нерусскоязычной
литературе термин «сила тяжести» не вводится
вместо этого говорят о фундаментальном
гравитационном взаимодействии) 5.4.3.2.1.2. и другие)))
и слышу удар крошечного огрызка о землю за забором
и наступает тишина
то есть отсутствие звука
так хорошо
и гаспаров прав говоря
что это невозможно
но такой цитаты я у него
не нашла
ОПЫТ МОНТАЖНОГО ЧТЕНИЯ ГРИГОРИЯ ДАШЕВСКОГО
«...на великом вечере великого Чухонцева в доме Брюсова, летом шестнадцатого или семнадцатого года, просто спал на каменных ступеньках все два часа, никаких стихов не слушал и не собирался.»
– Василий Бородин
У меня в рюкзаке павербанк, сборник стихов Дашевского и зеленый шерстяной пиджак деда с квартиры в Мытищах, а это значит только то, что день пройдет хорошо. Вчера Сережа написал, что можно съездить в Серпухов – услышал от бабулек у подъезда, что там офигенный пляж, можно было бы взять пива и пооткисать. Успешный день мужчины честной судьбы зиждется на трех китах: пиво, отдых и приятная компания, поэтому я сразу согласился.
Вечером думал, что можно захватить почитать в электричке, Захар сказал, что, пока его нет, я могу брать любые книжки и вещи, мне хотелось найти что-то нетяжелое из поэзии. Внимание привлекло нечто альбомообразное, я вытащил его из-под сборников в твердом переплете.
«Ну что ж, пойдем. И может быть, я встречу
тебя, а ты меня,..»
Это возникает в голове раньше, чем любая ассоциация с Дашевским, раньше, чем вспоминаешь его имя, раньше, чем понимаешь, что этот текст скорее всего есть в книге.
Маловозможный монтаж узнаваний. Я сел на электричку, достал книжку и как будто впервые за год почувствовал вокруг себя пространство для дыхания. Пытаюсь читать как другую книгу, но строки сливаются в ожидании того текста, и к ним примешивается летний день, спокойствие и восторг оттеняют друг друга в предчувствии встречи.
Его интонационные паузы, ореолы голоса, в которые, будто устраиваясь поудобнее на подушке, стремишься себя вместить. Когда попробуешь заговорить (как он?), больше с паузами, сбоями интонации (он именно говорит), своим текстом, наложенным на ритмы Дашевского, будто явственнее обнимаешь голос Жюльет Бинош из русской озвучки «Дурной крови», потому что он не твой (я бы побоялся), но очень похож. Они не сливаются, один не подзвучивает другой, они существуют в одном пространстве, сопереживая в молчании, в одной комнате.
Электричка в Подольск делит день на паузы приятного ожидания, от зелени к зелени под солнцем, на остановках явственнее придерживаюсь за грубоватые матовые страницы сборника. Встречаюсь на вокзале с Сережей и Настей, мы смеемся, едем в электричке, болтаем о кино. Теряемся в «Перекрестке», Сережа помогает искать ядреную выпивку, которую я сегодня захочу протестировать. Едем в стареньком пазике. Я иду по пляжу, и теплый песок будто помогает идти. Переместить себя любовью к чему-то теплому другому.
Леска света через день, от встречи до вечернего пляжа в Серпухове. Камера Эммануэля Любецки. Его операторскую работу невозможно задержать в кадре, выложить как скрины. Невозможно. Дать тексту эту легкость, даже не мелодичность как перекатывание по аккордам слогов, но именно полет. Даже проносясь по сонмам созвучий и для их до слов, играя с интонацией.
Дни, недели, месяцы распадаются на узнаваемые фрагменты. Оглядываясь назад, почему-то всегда хочется себя спросить, где это. Конкретно ли сейчас это чувство коммуникативной дисфункции, или было и тогда, или это был другой человек. В летнем дне с людьми, которые готовы были мне его доверить, встретиться и уехать туда, где никто из нас раньше не был.
Хочется освободиться от букв, от вынужденных продолжаться мыслей хотя бы ненадолго. Принять условность обязательности конструкций. Любая оставшаяся в памяти формулировка будет верной.
Понимаешь, Мирей. Я что-то долго говорил, сам уже не помню, что.
Меньше всего чувствую неловкость в разговоре, когда пьяный, всегда слова ощущаются более верными и нужными. И тогда многословие не смущает. Нет душевных сил вчитываться в контексты, только слегка касаться, засыпая, не ожидая чего-то в ответ.
«Мы в ответе за тех, кого приручили», но ситуативно, это не хочется вспоминать, думать, что вы отпускали свою слабость в исследование – оказывается, «куда-то не туда».
Где-то молчит та самая женщина-творение мифа, и я останавливаюсь в мыслях, чтобы помолчать вместе с ней. О ней я хотел писать лучше, чем кто-то, не кто-то о ней конкретно, а кто-то о ней своей как о явлении.
Та ты или не та, неважно, я бы говорил с тобой столько же? Если бы была возможность так же выбирать друг друга каждый день. А можно выбирать и так, молча.
Наедине нужна какая-то общая точка баланса, чтобы не оставаться лицом к лицу друг с другом. В знакомстве с домашними библиотеками, перелистывая страницы, искать стихи, отмеченные галочкой, выявлять наборы важных слов, эстетические кодировки, чтобы потом с ними же и остаться, хочется их обсудить, но почему-то незачем. Слова приколачиваются к тишине очень отчетливо, отсчитывают время.
Голова гудит после двух часов сна. «И продолжается похмелье, а значит, пишутся стихи», как говорил классик. Натыкаюсь в заметках на литеры посвящений, тексты под ними напоминают неуклюжие рисунки, которые перед окончанием смены в лагере дарят дети, у которых ты вел кружки. Разноцветные кляксоватые портреты, плата за впечатление, впечатывание в несколько дней их жизни. Я думал, как я выглядел глупо, но ты тогда сказала «ищу отголоски себя в твоих стихах», и сложно сказать вернее. Беззащитность перед старыми текстами ощущается как стыд за живость, тем более, раньше я сам хотел путать следы, чтобы ничего не осталось буквальным. И там же расслаивался, болел сутками страхом. Часть из этого останется на видном месте, и проходящие будут как бы заглядывать через плечо, и до сих пор как будто мне.
Нужно не забыть. Люблю смотреть из точки, где чувствую себя. Меня легко было видеть как что-то, что поможет, за чем можно идти?
Кажется, мне самому для полноты воплощения нужно воспринимать тебя как не совсем человека, Susan Orlean, искать orchids, эфемерное. Выбирать из обращенного ко мне, рассказанного в диалоге. Я помню, в начале оно летело, легко.
Прозаическое многословие в лучшем случае дает что-то похожее на ответ, иллюзию соседства, верную в присвоенности компиляцию предыдущих опытов, иначе – просто избыточность наблюдений или мазню новояза по придуманным трижды до этого лекалам. Я вижу километры текстовой бессмыслицы, одни и те же слова надоедают в постоянной перетасовке и рассыпаются на роение букв. Почему, мистер Андерсон, почему вы упорствуете.
Читал твой текст про интим. Принимал трепет как уникальность опыта. Это показалось очень похожим на ответ.
Мне не надо «подавать патроны», мне не нравится, когда женщина любит за мной повторять и вникает в то, что сама не любит, с собачьими глазами. Так же скучна оформленная эстетика, позиция, которая просто как факт даст мне надежду бежать за ней самому.
Я хочу начать с дружбы, где нет какой-то уступки, желания подпеть другому. С горения, с поддержки, дополнения идей друг друга. И тогда можно будет с ней писать до утра подкасты.
Приходит время эмоционального отклика, моментного, расходящегося кругами по тонкой грани между «торопить себя» и «прислушаться к себе». Как попасть в ту лакуну, где в обоих предполагаемых исходах одинаково счастлив. И в со-действии, и в созерцании.
Пусть будет пространство спокойной нежности, даже когда люди не слышат друг друга, они все равно открыты, как будто не торопятся, но все равно очень объемно всем делятся в отведенном отрезке времени.
Меня были рады встретить, путешествовать со мной. Тишина прекратилась. Настолько, чтобы я понял, что рад сейчас встречаться с этими словами. Принимать себя более голым, уязвимым, чем в воспроизведенной речи или изображении. Не защищенным явной интонацией или спасительно бессловесным. Утверждать свою значимость прежде всего любовью в себе. И тогда есть желание нести ее, так, непричастно, отдавать в какой-то момент и отходить. А когда подходят к тебе, не убегать, а согласиться прежде всего с тем, что в тебе услышали что-то родное (если слух был обращен к тебе, а не предположил и тебя, выбрал из).
Немота опадает. Верность впечатления обнаруживает русло речи.
Как Мирей вернулась из Boy meets girl в «Дурную кровь» одной сценой, сном, продолжением и возвращением мыслей – даже не Алекса, а моих, так же размылась теперь и Жюльет Бинош, и ты стала восприниматься не как она тоже, а как черты ее персонажа, как возвращение, как область памяти.
Когда нет дисфункции восприятия, когда все летит. Когда неважно, в каком ты городе, неважно, сколько тебе лет.
После вечера стихов Иннокентия Младенцева мы с друзьями напились и смотрим «Смешариков». Захар спрашивает, у кого какая любимая серия, все что-то отвечают. Мои мысли не фокусируются. Какая-то серия ощущается пространством взаимной неловкости героев, но при этом мне сейчас очень комфортно и светло, говорю Але, что это как в «Тони Эрдманне», и мне хорошо от этого, я сам весь последний год был как дед из фильма, только видел себя со стороны и все ждал, когда люди вокруг перестанут быть снисходительными и сбросят меня как мертвый груз, или я приму себя как точку возврата, которая не дает задел для продолжения историй, только для редкого обмена мемами на знакомые темы. Но сейчас мне все это неважно, я не замечаю существования за собой, братаюсь с прекрасными людьми, которые бухущими смотрят «Смешариков», они любят эти серии, а я люблю их. Я знаю, что, когда все уснут, с Герой на кухне буду говорить о тебе. Я пойму, что мне легко, что я перестал тебя пересобирать.
Принесу из комнаты водку, допью остатки. Повторю свою недавнюю мысль о том, что женщина должна быть такая, чтобы с ней хотелось долго-долго говорить и потом снять об этом кино. И в прошлый раз я сказал ее в таком же состоянии, видимо, трезвый ум не позволяет себе большие хорошие глупости. Потом расскажу, о ком я думаю сейчас.
Что-то зыбкое о ее образе мыслей, но вспоминаю ее фотографию, и она становится очень явно присутствующей, мне так нравится ее речь, что я не стесняюсь путаться в своей. Возвращаясь сейчас к этому моменту, я понимаю. Говоря о ней, я прерываю свою немоту.
Тогда, в смешанных чувствах и с внезапным общим фильмом позади, расплачусь, включу нарезку с Leaving Las Vegas и буду подпевать My one and only love.
Через две недели, лежа в кровати, перед сном я пойму, что ей бы пошло читать Дашевского или Василия Бородина. Что-то уязвимое в своей мелодраматичности, днями переходящее в легкость, но при этом формально выдержанное, даже не сдержанное в рамках хорошей формы, осеченное, а как будто изначально вкрадчиво-нежное, но вместе с тем аскетичное, точное. Будто наложенное на верную интонацию.
Теперь меня воодушевляет то, какой она мне близкий друг. Не в плане количества времени, проведенного вместе, не в плане рассказанного друг другу глубоко личного. Просто в этом моменте принятия, прощания и постоянного соприкосновения точек во времени большого путешествия.
Даже нет, не снять о ней кино, а снять его вместе с ней, собрать все вечерние подкасты и вспомнить, что в них же мы сразу писали второе, вспоминали, как оказывались в любой точке и все равно далеко от того, что вокруг.
Every day, it's a-gettin' closer
Goin' faster than a rollercoaster
Love like yours will surely come my way
Она пишет бесконечную речь влюбленного, и в этом права. В большой истории или в заметке на канале. Для меня это лучшее из возможных соседств с прозаическим текстом.
Она пишет с вниманием к собственной нежности, но не фонтанирует ей, перебрасывая себя по очагам возможных впечатлений и надобностей, она скорее дружна с ней.
То малое (и главное), что я могу сделать – не задушить в себе право безошибочно угадывать свое.
Трое
Если позволить неминуемому случиться, стану ли я соучастником?
Я приезжаю в деревню осенью, когда в разваливающемся от времени деревянном доме появляется плесень из-за постоянных ливней. И по приезде, выходя из машины, я встречаю плешивые поля с погнутыми лежачими колосьями, сарай с потрескавшейся зелёной краской, вырытые неподалеку от него мышиные норы, и заросшую тропинку до уличного туалета. По другую сторону из-за холма выглядывает разваливающаяся крыша моего дома. Входишь в сени, чувствуешь запах сырости, проветриваешь комнаты, раскладываешь ловушки для мышей, кормишь птиц, и главное – затапливаешь старую русскую печь. И через много дней, когда деревенский уклад становится привычным, вечерами находишь время на чтение или на написание рассказов в своей маленькой комнате. И вот ко мне в окно постучалась голая ветка.
1Oyfn veg shteyt a boym, steyt er ayngeboygn;
Ale feygl funem boym zaynen zikh tsefloygn:
Птицы никогда на тебя не садились, солнечные лучи изредка касались твоей коры. И только ветер бьёт и трясёт сухожилия. И по очереди слышен треск каждого другого, слабого молчаливого дерева.
Переживёшь ли ты сегодняшнюю ночь?
2Dray keyn mizrekh, dray keyn mayrev, un di resht - keyn dorem,
Un dem boym gelozt aleyn, hefker farn shtorem...
Нас трое: я сижу за столом напротив окна, ты – как нищая, тянешься к освещённой лампой комнате, он – воет и играется с твоей талией.
Тук-тук-тук.
Я сижу у окна и делаю вид, будто занимаюсь своими делами. Я не хочу быть свидетелем ваших споров.
Как ребёнок закрылся в комнате с игрушками во время непонятной ему ссоры родителей, так и я надела наушники, пока вы с ветром боретесь за что-то невидимое.
Тук-тук-тук.
Ты просишь меня показать электричество, в надежде, что оно окажется солнцем. И сколько бы я не говорила, что в комнате свет искусственный, ты умоляешь открыть окно.
Но если я открою его, то сюда залетит ветер и заберёт все мои дневниковые записи.
Тук-тук-тук.
Ты качаешься вправо и влево. Тебя волнует мое равнодушие. И маленькие сучки скребут по стеклу, диктуя секретный код.
Но вот на помощь ветру издали приходит гром. И он медленным приближающимся рёвом заглушает твой голос.
И я скорее пишу в тетрадь, краем глаза замечая, как тебя кидает в разные стороны.
3Zog ikh tsu der mamen: - her, zolst mir nor nit shtern,
Vel ikh, mame, eyns un tsvey, bald a foygl vern...
И на стеклянное небо наплывают тёмно-синие тучи, раскалываясь на более маленькие кусочки, захватывая землю бегущей тенью. И всё обращается во мрак на пару мгновений.
Молния колючей проволокой сверкнула где-то совсем близко. С оглушающей силой ты пытаешься ворваться через оконную раму. Ты бьёшь мой дом, мешаешь писать моим рукам, пытаешься добраться до головы. Голая и замученная ты, как женщина, запертая суровым мужем, надеешься убежать. Неважно: с враньём, уловками, взламывая замок шпилькой для волос, скинув туфли, босыми ногами. Но ты – часть дерева. И корни в земле, громадный ствол, не дают сдвинуться с места. И только руки-ответвлённые ветки бьют по дому:
Тук-тук-тук-тук-тук-тук
Последнее желание – увидеть солнце, чтобы погреться. Чтобы снова узнать правду про доброе и тёплое, про живую душу, про мягкий свет. Но за окном ночь, и ветер уже не пытается тебя завоевать, он знает – ты в его руках. Проливной дождь, который принесёт кому-то радость (собаки искупаются в грязных лужах, цветы смогут вдоволь напиться), с тоской оплакивает твою судьбу, при том, что обычно ему ничего не нужно, и он никого не ждёт.
4Ikh vel zitsn oyfn boym un vel im farvign,
Ibern vinter mit a treyst, mit a sheinem nign.
– Открой окно, открой окно. – Кричишь ты мне.
Ветер собрал все потоки воедино, вскинулся, затянул узел, большими пальцами обхватил шею. Ты задыхаешься. И в воздухе грянуло бегущее скерцо, взвился ветер, исказилось твоё лицо.
– Тебе никуда от меня не скрыться. И в доме вырубились пробки. Короткая вспышка от лампочки исчезла во мраке опустошённой комнаты. Искусственного солнца больше не существовало. Меня среди вас тоже. А за окном послышался треск падающего дерева.
Никто больше не стучал.
_____________________________________
1Перевод старинной еврейской колыбельной: "На дороге стоит дерево/Стоит оно склоненное"
2Перевод старинной еврейской колыбельной: "Все птицы с этого дерева/Разлетелись"
3Перевод старинной еврейской колыбельной: "Три на запад, три на восток,/А остальные — на юг"
4Перевод старинной еврейской колыбельной: "И оставили дерево одно,/Беззащитное перед бурей"







Рудимент
Мир теперь делился на две части: с одной
стороны были девушки с пустыми животами, а с другой – я.
Анни Эрно. Событие
Казалось, нижнюю часть живота со всей силы затягивают невидимым корсетом. Я сразу поняла, что это не просто боль. За несколько дней до первого заявления о себе твой папа узнал о задержке. Она была и месяц, и два месяца назад. Не отрываясь от книги, он погладил мою спину и сказал, что верит в нас. Я знала, будет девочка.
На маме домашний кардиган, волосы собраны в конский хвост. Наверное, серый цвет старил её еще тогда. Она разбирает копну ниток и, наконец, достает иголку. Мои руки пахнут гренками, вымоченными в молоке с сахаром.
— Так, мартышка, смотри. Вытягивай ту, что со стороны сердца. Нет, это правая.
Мама ждет, когда я перестану заливаться хохотом.
— Успокойся! Видишь сколько здесь иголок? Одна из них вопьётся в кожу – ты даже не заметишь. И по крови дойдёт до сердца.
— А-а-а-а, нет! Хочу попробовать погадать сама!
— Я сейчас ничего не буду объяснять, слышишь меня? – свет из окна бьёт в глаза, и мама прищуривается, продевая нить в ушко.
Я высовываю язык и повторяю за ней, стараясь не замечать, как вымышленные иглы несутся по кровеносной системе, словно дети, скатывающиеся с горки. Пока мама злится на мулине, иглы - одна за одной - врезаются в сердце.
— Нужно держать иголку над ладонью левой руки…
— Потому что слева сердце?
Я замираю в ожидании боли. Только бы она не догадалась, что я скоро умру.
— Да, потому что слева сердце. Конец иголки должен быть как можно ближе к ладони. Руку держишь спокойно, не трясёшься, не елозишь. Если иголка ходит маятником – мальчик, а если по кругу – девочка.
Я уже умирала, только по-другому. Задержала дыхание, когда мама заходила перед сном выключить свет в комнате, и она ни-че-го-шень-ки не поняла. И в бассейне. По-настоящему. Меня спас тренер.
— Всё, нужно сосредоточиться.
Иголка замирает над ладонью, задумывается и делает слабый круг.
— Ты подула на неё! Мам, так нечестно! – я вскрикиваю от неожиданности.
— Поживём-увидим.
Через несколько лет я поняла, что нужно было бояться не иголки, а плесени за холодильником. Тогда я в первый раз заболела грибком и быстро забыла предсказание круга и свою скорую кончину. Обои растекались по стене пятнами Роршаха – каждый сезон нас топили соседи сверху. В квартире было влажно, мы часто болели.
Он бы такого не допустил. Твой папа был так счастлив – готовый ко всему. Представлял, как будет выбирать игрушки с закрытыми глазами, чтобы понять, что может понравиться наощупь ребенку, если он родится слепым. Конечно, это не произносилось вслух. Мы говорили: «Если что-то не дай Бог пойдет не так». За три месяца до твоего зачатия папа перестал пить, раньше возвращался с работы. Руки не переставали изглаживать мой живот. Даже когда он был сзади. Не верю, что произношу это, но я стала ревновать вас обоих. Его к своему животу, тебя – к его любви. Я скучала по ощущению тяжести тела на себе – больше он на меня не ложился.
Мы часто спали в обнимку. Зарывшись носом в его спину, я слышала биение трёх сердец. Разве можно представить более трепетный момент? Прости, но я так и не рассказала об этом папе. Черта между твоей принадлежностью нам была проведена мной намеренно. Я уже завидую первым месяцам вместе – месяцам твоей потребности в моей груди, в моем голосе, в моих руках.
Я так хотела ребенка, что боялась оказаться бесплодной в наказание за дерзость. Мне стала мала почти вся обувь – ноги походили на два вымоченных ватных валика. Мозоли обрамляли пятки, я не могла передвигаться без слёз на глазах. Вагоны метро наполнялись беременными женщинами, и это сводило с ума. Милая, ты никогда не узнаешь, но я думала об аборте в конце первого триместра. Изжога была невыносимой! Меня тошнило от одного вида еды: запахи яичницы и кофе поселялись на волосах и душили меня до похода в душ. Твой папа называл это ежедневным серпантином.
Однажды я выплюнула на ладонь крошки пломбы, оказавшимися частями зуба. Кажется, нижней семёрки. И после этого днями и ночами пихала в себя творог и рыбу. Знаешь, до беременности я никогда не любила принимать ванную. Мне нравится думать, что вода обволакивает моё тело так же, как тебя в утробе. Мы становимся ближе.
Начало второго триместра. Тело-барельеф. Ты будешь такой прелестной! Обязательно украдёшь родинки с маминого подбородка и с папиной спины. Будешь высасывать пыльцу из цветов в огороде бабушки и подбирать бродячих кошек. Мы дождемся разговора о незнакомцах на улице и покажем на твоих маленьких платьях, как взрослые дяди и тёти не могут тебя касаться.
☯☯☯
В тот день он задержался после работы, я пролежала на кровати с самого утра, так и не сомкнув глаз. Разговаривала с тобой – моя девочка капризничала и тянула низ живота, как уставший ребенок тянет подол юбки. В какой-то момент мы обе устали.
Я проснулась от запаха перегара. Приближающуюся к кровати фигуру пошатывало из стороны в сторону.
— Что случилось?
— Просто выпил, а что?
Складки простыни быстро поделили пьяное тело между собой. Я придвинулась к стенке и начала гладить его руку. Всё будет хорошо. Боль не такая сильная. Он рядом.
Тельце пульсирует у меня в руках, ноги раздуваются, как воздушные шары. Руки покрыты побелкой и черными пятнами. Я не слышу крика, но вижу, как открывается ее рот – ушко иголки зажато крошечными зубами.
Последнее признание Земли
гимн
река Лета уносит
personal data
сохраняет воспоминания
этим мы обязаны человеку
с легким сердцем ухаживаем за любимым
сжать покрепче
вечная память — дни в подарок
будет грустно
бог на каждый день < могила
265 км/час
872 км
«Господи, лечу!»
прямо в небо
Утром было свежо, поэтому Мина проснулась с одной головой, совсем не чувствуя себя под набухшим от тепла одеялом. Тогда она вспомнила, чему ее учила сестра, как они устраивались на подоконнике в зале — сестра поджимала под себя ноги, Мина прижималась щекой к ее колену; улегшись на правый бок, чтобы больше места было сердцу, она стала перечислять — ну, так пришлось — самой себе. Почувствуй свои волосы, как они тянутся из луковиц и ложатся в твоих растрепанных косах колосок к колоску. Представь, что твое дыхание — это комочек света, думай о том, как он смешивается со слюной и катится по горлу, как открывается и закрывается твоя грудная клетка. Попробуй сжать свои пальцы с той же силой, с которой косточки соединяются с мышцами, прислушайся к пощипыванию пульса под локтями и под коленками. Сестра заклинала от слез, текущих, прошедших и будущих. Бывало, ей еще помогал Амир: если Мину тошнило, он держал ее за руку, хотя Мина больно царапалась и сдирала кожу с ссадин.
Жаль, что сестры нет рядом. И Амира тоже. Хотя он ведь не ушел. Он с ней, в этом городе, просто уехал в гости к семье. Мина все понимает, она бы тоже заночевала у родных, если бы спали они не под землей. И все-таки она пропустила один вздох, пока думала об этом. Мина вытянула ноги, передразнивая сестру, и ей стало щекотно от холодка на простыни. От собственного смешка она проснулась насовсем, правда, ей непонятно было — из-за щекотки она захихикала или от чего-то еще.
Казалось, утро было ясное, только солнца не нашлось ни в комнате, ни за окном. То есть было по-голубому пасмурно. Накануне не растопив во рту и кусочка сахара, Мина проснулась по-человечески голодной: стоило ей слететь с постели, как по потолку рассыпались блестки. Она решила еще немного повынашивать это чувство под ребрами, пока чистила зубы, обливалась в душе ледяной водой и разнашивала затекшие за ночь колени. И ей было хорошо. Словно у нее внутри звезда. Белая карлица.
Ее давно уже никто не подгоняет жарить хлеб с яйцами в девять часов. Мине приходится включать приемник, чтобы заставить себя приготовить завтрак. Раньше так делали разве что одинокие старики, теперь — все одинокие. Радио говорило с помехами, постоянно повторяясь — видимо, в радиодоме зажевало пленку, — в этом они с Миной были похожи. Она с трудом разбирала, что хотел сказать диктор, каждый день ей слышались новые конструкции из одних и тех же слов. А на станции даже не пытались делать вид, что ведется прямой эфир: крутили то ли «В мире животных», то ли «Голубой огонек» — что-то из небытия, из того времени, когда Мина еще не родилась. Из времен, когда семена пшеницы разлетались по полю и не держались вместе, дожидаясь, пока к ним придет человек. Она читала о них в учебнике по естествознанию.
Погрев ладони над сковородкой, Мина положила на кусок маргарина сероватый ломтик батона.
— Искусственные люди, — карабкался голос из-под решетки динамика, — загадка в Соединенных Штатах. «Сосуд», который можно увидеть, пока за ним наблюдают. Самый лучший уже прибыл, я сейчас за него бьюсь. Я хочу получить его сейчас, изо всех сил пытаюсь.
— Что вы имеете в виду, Чапек-сан? — переспросила Мина в шутку, и точно так же, как бы шутя, ей ничего не ответили. В этом радио было чем-то похоже на Амира. Можно сказать, и Мина, и все ее милые: слишком громкие, или слишком ворчливые, или затыкающиеся невпопад — по-своему вылезли из этой пластиковой коробочки. И все они рано или поздно станут такими маленькими, или тонкими, или невидимыми, что смогут уместиться в ней снова.
Мина щелкнула ножом по карамельно-коричневой скорлупе; желток расклеился и растекся в пузырьках масла.
— Интересно, останутся ли у нас голоса..?
— Я на пороге счастья. «Верно». Это здесь, прямо сейчас. — перебил ее мысль приемник. — Почему бы тебе не оставить дорогу?
После такого выпада ей стало как-то обидно. Она чуть было не решила поесть в тишине, когда диктор добавил:
— Хочу защитить тебя. Теперь я могу сражаться.
— Наверное, сегодня я возьму тебя с собой, — бросила она в ответ, потупив взгляд на глазунью-циклопа с мягкими хлебными боками.
— «Я тебя совсем не беспокою». Вы выглядите точно так же, молодой человек.
Мина наелась яичницей, и это было хорошо. Но в холодильнике все еще стыла еда, которую кроме нее больше некому было съесть. Так было всегда перед путешествиями, например, или переездами: семья за неделю старалась не покупать лишних продуктов — и все равно на полках оставался чей-нибудь йогурт или недоеденные макароны. Поглазев на свое наследство, Мина разрезала уже подвядший огурец и сгрызла его с медом в прикуску — арбузы и дыни в город давно не возили; соскребла с остатков сыра засохшую белую пенку и проглотила его вместе с последней горбушкой хлеба; доела твердый, как лед, темный шоколад, хоть и не очень-то его любила. Мина объелась так, что на несколько минут забыла, как двигаться. И это тоже было хорошо. Словно она поела за двоих. Ей вспомнилось, как ее всегда злили Амирины шутки на эту тему, и подумала: и правильно, что не соглашалась, и слава богу. Соседи рассказывали, сколько матерей испугалось сегодняшнего дня, сколько женщин стали птицами, кукушками или аистами, и вылетели из окна — с детьми в обнимку или без них.
Положив сковородку в раковину и промочив пальцы в масляной воде, она задумалась, стоит ли тратить время на мытье посуды. Ей-то она больше не понадобится, но, может быть, тем, кто займет ее место, будет приятнее, если они уже по приезде смогут что-нибудь себе пожарить? Если только у них есть язык и зубы, чтобы есть и пить. Если им вообще нужна крыша над головой, ради которой они поселятся в этой квартире. Если только они умеют согревать своей кровью складки на мятой постели. Мина отсыпала на сковороду горчицы и натерла ее до блеска: она успела соскучиться по чувству благодарности к самой себе за выполненное пустяковое дело.
Саму себя по головке не погладишь… нет, можно, конечно, но это все равно не то. Мине захотелось похвалить за себя кого-нибудь другого. Джинсы на размер больше, снятое с забора у свалки сестрино пальто, кроссовки из средней школы; из чистой одежды собрав себя во второй раз за сегодня, Мина бросила в авоську радиоприемник и выбежала наружу, стараясь не задумываться о том, что можно уже не запирать входную дверь.
Она решила найти и погладить какого-нибудь одинокого кота. До возвращения Амира оставалось еще несколько часов.
Мина шагала по дорожке вдоль подстриженной ежиком травы и пускала в воздух белые шарики пара: она выдыхала их так усердно и часто, что с каждым шагом они становились все прозрачнее и призрачнее; начинала кружиться голова. Маски она не надела даже для вида, все давно поняли, что от них ничего хорошего — только знакомые реже узнают тебя на улице. Мина шла по миру с открытым ртом, пусть в этом мире людей почти и не было. Во всей округе — она да Чапек-сан. Казалось, он пел, и Мина шепотом подсказывала ему слова.
У меня нет золотой середины. «Верно».
Может быть,
я родился
посреди дня, и на меня все
смотрели
с грустным выражением лица?
Интересно, почему
улыбка была напряженной, а—
Облака потрескались, и дорога стала еще веселее. Мимо неспешно прокатилась кряхтящая легковушка, и в окнах тут же появились дети: они звали ее и махали ей вслед — так в деревнях раньше встречали проходящие поезда. Мина шла за сухими листьями, словно за лунными камушками, проверяя каждый двор, пока наконец не услышала знакомый из детства писк в одном из мусорных баков. Она представила себе пару вечно голодных монстриков (один — рыженький, другой — серый и полосатый), копошащихся в пластиковых мешках в поисках съестного. Из-за таких вот глазастых пришельцев Амир заворачивал в ткань осколки разбитой в играх посуды: рвал поношенные футболки и завязывал их на десять узлов.
Не успев подойти к мусорке, Мина заледенела на месте, словно насадив пятки на выросшие из асфальта гвозди. Может, стоило все-таки упасть и зажмуриться, притворившись мертвой, только вот она больше думала о сестрином пальто, чем о своей шкуре: земля была мокрая.
Из-за решетки, как раз напротив баков, высунулась большая белая голова и медленно обернулась против ветра.
— «Я вовсе не дразню тебя, — некстати затараторил Чапек двумя голосами. — Сейчас я судно, которое может выстоять без какой-либо золотой середины». Не превращайте меня в кита, молодой человек.
Мина помолчала, дожидаясь, пока блестящий силуэт исчезнет, и только потом, прижав приемник к носу, точно человеческое лицо, пробормотала:
— Мне показалось. Это был просто солнечный блик. Или ангел.
Положив ладонь на макушку, она долго не двигалась с места, расчесывая слабыми пальцами запутавшиеся волосы.
— Я сейчас иду по дороге с широко открытыми глазами. Всевидящий, без внутреннего разговора, среднего возраста, «правильный».
Мина вбежала в подземку, задыхаясь, точно резиновая игрушка-пищалка. Человеческие тени скользили мимо колонн, играя с пустотой вестибюля в «резиночку», и исчезали за отключенными турникетами. Повсюду плакаты пестрели заплатками, наклеенными поверх родных картинок или надписей:
ПОЖАЛУЙСТА НОСИТЕ МАСКИ ИЛИ ПРОТИВОГАЗЫ защитите себя и близких от неизвестности
НЕ ПРЫГАЙТЕ С КРАЯ ПЛАТФОРМЫ это затрудняет движение поездов
— Время в Америке искусственных людей загадочное. Сейчас трудно защищаться, но мы боремся. А к святыне — утром. Может быть, это выставка цветов ради [неразборчиво]. Середина дня пуста, и ты справа.
Люди ехали домой. И все равно вагоны, блестящие после генеральной уборки и холодные, точно стаканы из нержавейки, были наполовину пусты. Так и раньше бывало, когда Мина сбегала с вечеринок за двадцать минут до закрытия переходов. Остановившись испуганным взглядом на своем искалеченном, прямо как в комнате смеха, отражении в темно-сером окне, Мина представила себя в Амириной комнате с гирляндами из «Фикс Прайса».
В этом поезде ночь наступила раньше, чем снаружи. Бледные лампы мигали между остановками, словно отмеряли минуты. Стояли на станциях долго, как если бы машинист на каждой выходил на перекур. Мина выкрутила громкость приемника до минимума: пассажиры поглядывали на нее с опаской, она чувствовала себя юродивой с пластмассовым оракулом на коленях. Вагон укачивало, Мине даже казалось, будто кто-то потрясывает ее за плечи, только спать не хотелось. Таков закон подлости: чем меньше людей в метро, тем медленнее сон идет в руку — потому что отчетливее сознаешь свое неодиночество. Мина кусала губы, злясь на расстояние и радуясь каждому приконченному километру. Закрыв лицо ладонями, она прислушивалась к запаху Амириных волос из своей памяти.
Красная лампочка над дверьми замигала очередной пораженной мишенью…
— Станция «Преображенская площадь».
…и Мина победно улыбнулась, пока никто не видел.
С каждым днем город все меньше походил на самого себя, худел, бледнел и глох. Однако Мина все равно не ожидала застать его еще и поседевшим: пока она путешествовала под землей, прозрачно-голубое небо прошлось по нему снегом.
— Зима началась, — с теплом выдохнула Мина.
Хруст под ногами сбивал с ритма и мешал найти нужное окно в горящей сетке панельных домов: незашторенное, с холодными лампочками-пузырьками и тенью от зеркала на подоконнике. Среди множества ножек-дорожек Мина никак не могла вспомнить свою — она не узнавала ее под пеленкой из снега. Мина вышагивала осторожно, опустив голову, как бы выискивая собственные летние следы. Мина пошатывалась. Блестки свежих снежинок впивались в зрачок тонкими иголочками.
— Земля исчезла, — приговаривала она себе под нос не своим голосом, устав от ряби в глазах. А потом оборачивалась, проверяла асфальтные проплешины от кроссовок на снегу и тут же успокаивалась: — Земля зародилась снова.
Мешало сердце у нее в груди. Пульс прыгал к ребру, и Мина все не могла нащупать его через жесткую материю пальто. Пульс усыплял ее и в то же время грозился потеряться насовсем: она слышала наяву свой ночной кошмар.
Вверху что-то сверкнуло. Мина нехотя выгнула шею: страшно было смотреть.
Гирлянда в окошке несколько раз включилась и выключилась, пытаясь что-то передать ей на азбуке Морзе.
— Ну же, сделай удивленное лицо, — протянула Мина,
переворачиваясь на спину. — Я не узнаю тебя без него.
Амир послушно вскинул брови — так же смешно, как она это запомнила — и снова прижал ее к себе. Мина почесала нос о его потную грудь и спрятала лицо у него за ухом: у его волос был тот же запах, что и у воспоминаний о них.
— Как же тепло у тебя вот здесь.
— Поцелуй меня.
— Знаешь, мне всегда было грустно, когда я делала что-то в последний раз и только потом понимала, что этого больше не повторится.
— Типа когда целовала парня, думая, что у вас все хорошо, а он через пару дней бросал тебя?
— Типа.
— Поцелуй уже меня. Вот так, да. Ну все, теперь проваливай.
Мина как всегда не поняла шутки, и Амир, посмеявшись за двоих, схватил ее под мышки. Мина не очень понимала, смешно ей или скорее больно: под матрасом был только пол, и она ощущала его каждой косточкой. Заметив, что ей неудобно, Амир уложил ее голову себе на плечо.
— Сколько у нас осталось времени?
— Темно уже на улице.
Прикрыв веки, она легонько сжала его свободную руку. На мгновение ей почудилось, что это ее собственная ладонь: захотелось, как в детстве, положить большой палец в рот и прикусить его под ногтем.
— Ну что, cigarettes after sex? — спросил Амир, пародируя британский акцент, и похлопал ее по плечу.
— Только давай возьмем с собой господина Чапека.
Все еще разгоряченные и полураздетые, они вылезли на общий балкон. Тяжеловато-серое из-за сплошных облаков, небо рассыпа́лось на снег. В застоявшейся тишине эхо невидимых уличных шагов поднималось до самых крыш. Приемник посапывал на мокрой табуретке, которая стояла тут для красоты — на ней обычно никто не сидел. Амирины сигареты оказались слишком крепкими для Мины, и после нескольких затяжек ей пришлось взять его под локоть. Сколько раз, задумалась Мина, они курили тут в общей компании или вдвоем, тратя время на то, чтобы не замечать друг друга?
— «Я совсем не чувствую того же». Взглядом я задаюсь вопросом пристальным и мимолетным. Не давайте мне никаких впечатлений, молодой человек.
— Закрой глаза.
Мина поцеловала белый парапет и сразу же прижалась губами к Амириным губам; за каких-то пару секунд снег потеплел, как слюна, и стек по подбородкам. И это было хорошо. Мина враз почувствовала себя выспавшейся, сытой и живой.
— Никогда так не делала. Просто представь, сколько глупостей мы упустили — и ведь только потому, что они называются глупостями!
— Да-да. Например, мы так и не сделали это в…
— Кончай.
От никотина Мина совсем расслабилась, ноги едва держали ее. В носу защипало: так это было несправедливо. Ей хотелось еще постоять на своих двоих.
— Как думаешь, это можно было назвать любовью?
— Наверное, все-таки нет.
— А ведь ты сто раз говорил мне, что любишь меня.
— И сейчас я думаю о том, что надо было делать это чаще.
Выдохнув последний клубок дыма Мине в волосы, Амир крепко обнял ее. С высоты седьмого этажа было видно весь двор; какое-то время они молча следили за тем, как снег затапливает скамейки и детские качели.
— Смотри.
Из-под сугроба вылез силуэт, похожий на человеческий, но явно не из человеческого слепленный: мыльно-белый и как будто переливающийся изнутри, он больше походил на пластиковую фигурку, имитирующую хрусталь. Силуэт не чертыхался и ни у кого не выпрашивал закурить. Лица с языком Мина с Амиром у него не разглядели.
— Интересно, останутся ли у нас голоса..? — тихо спросила Мина.
— Конечно, — ответил ей Амир с добродушной улыбкой. — Твой голос будет у меня в памяти, а мой — у тебя.
Амир вытащил из кармана пальто ручные часы и показал их Мине.
— Включи приемник погромче.
Они ждали, что в эфир пустят белый шум, или таймер, или гимн. Ничего. Только дыхание и глотание, только биение сердца, урчание в животе, шмыганье носом да шорох от почесывания щеки. Мина потянулась на цыпочках и стала быстро шептать Амиру на ухо все подряд, пытаясь уместить сотни неслучившихся фраз в одну.
— Внимание, говорит Москва. Обычно ведь так начинают выступления по радио, когда никто не хочет брать на себя ответственность, да? В общем, московское время — двадцать три пятьдесят семь. Дорогие граждане, мы надеемся, что вы успели сделать, что хотели. Текст официального постановления, который я должен зачитать на случай, если вы вдруг все забыли, слишком длинный, я обойдусь своими словами, ладно? За последний год мы выяснили, что одновременно две гуманоидные расы на Земле жить не смогут. Посему наверху — и где-то там на еще более верхнем верху — между собой решили, что они останутся, а мы — нет. Только без паники, пожалуйста. Это не геноцид, ну, если вы вдруг все забыли. Просто мы, люди, через пару минут развоплотимся.
Мина приложила два пальца за ухо и ничего не услышала — только чуть-чуть обожглась о собственную кожу. Попробовала сжать Амирину руку — и каждое ее сухожилие, каждый нерв так же ответили ей непривычным теплом. Мина вдруг поняла каждое движение своего тела: как толкается во рту язык, как хлопаются в гортани крылышки голосовых складок, как вместе с легкими туда-сюда качается диафрагма. Поняла — и в один миг потеряла это чувство: что-то внутри нее взорвалось. Когда-то она точно так же забывала утренние сны.
Души разбились на атомы и искрами взлетели в воздух. Тяжеловато-серое от сплошных облаков, небо залилось светом, который уже никого не мог ослепить.
Приятели часто подшучивали над ними: при прощании у них никак не получалось друг от друга отцепиться, и они долго-долго обнимались на пороге. Больше им не нужно было пересиливать себя.
для Е. П.
Обон
Ты ждешь на пустой автобусной остановке, опираясь мягкой от пота ладонью о трость, хотя она тебе уже не нужна. Солнце заходит; в его лучах скамейки снова светятся оранжевым, словно много лет назад. Теперь темнеет рано, а в июне казалось, что ночи всегда будут короткими. Вокруг цветет цикорий: осел на траве, точно роса, и разбросался вдоль дорог. Ты много раз видел эти сиреневые цветы возле дач и у кладбища. Одергиваешь от ключиц воротник выглаженного поло: да, жарко, но вечером ветер будет прохладный. А ты думал, что июльская духота уже не слезет с этого города.
Ты ждешь, зная, что всегда можешь вернуться домой. За твоей спиной стоят три гиганта из рыжего кирпича; твой — посередине, единственный урод в семье: его построили так, что окна угловых квартир заглядывают в чужие балконы. Половину своей жизни ты провел именно там, и ты уверен, что останешься там до конца.
Интересно, она все еще таскает с собой синего утенка? Воображаемо синего: его плюшевое тельце со временем истерлось в ее руках. Научилась ли она плавать, пока они отдыхают на море? Понравится ли ей носить школьную форму в сентябре?
Знает ли она, что далеко-далеко, за двумя океанами, люди в это время запускают в небо бумажные фонарики?
Каждый плевок ветра поднимает песок в воздух; так же зимой на этой остановке взлетает снег. По крайней мере, так тебе помнится: ты редко выходишь из дома, когда знаешь, что можешь упасть. По дороге ползут автобусы — красные колорадские жуки. Ты любишь садиться с ней на тройное сидение рядом с кабиной водителя, чтобы она рассматривала город и спереди, и с боков. Твоим ногам приходится торчать в проходе: какой-то рудимент от вагонов метро, которые здесь, правда, в глаза не видели.
С каждым часом все больше выцветает горизонт. Закатное солнце разбилось на зеркальца и попряталось по уличным фонарям. Небо выжимает розовую кровь из облаков. Кажется, что света почти не осталось, но он везде: в витрине продуктового, в подмигивающих тебе фарах, в окнах вернувшихся с работы заводчан.
Тебе не грустно и не больно. Ты просто хочешь домой.
Ты не знаешь, что в той квартире больше не играют на фортепиано и не смотрят кассеты. Что оттуда давно выкинули офисное кресло, на которое ты уронил раскаленный утюг. Что краска на стенах лоджии уже сморщилась, а кухонные шкафы расстроились и плохо закрываются.
Обернувшись на мгновение, ты замечаешь рядом с собой молодого мужчину. Лицо его нездорово худое, под локтями синяки. Ты не жмешь ему руку: вместо этого вы строите друг другу гримасы.
— Ты давно здесь?
— Я пришел еще раньше тебя, Бельмондо.
— На «мороженое» не дам.
— Я завязал, — грустно ухмыляется он. — Теперь — насовсем.
Сосны над стоянкой дразнят вас своей вечностью, и вы вместе наблюдаете, как они качаются в такт сигнализации из испугавшейся машины. Внизу, под холмом, в последний раз звенят трамваи. Твой друг говорит, что видел, как они там ложатся спать. На остановку подтягивается народ. Ты встречаешь белоснежно-седого дедушку с золотой рыбкой в пластиковом пакете и пожилую женщину в коротком парике. Проходит еще время, и вот тебя уже весело пихает в бок твой родной брат. Вас теперь много, но тебе все еще кажется, что ты здесь совсем один. Может, потому, что вам нечего друг другу сказать.
Интересно, ей все еще нравится история про девочку, которая попала в гости к призракам?
Лес почернел, и в небе расцвели звезды. Над крышами развевается флаг из оранжевого месяца. Обнимаешь себя свободной рукой, но не можешь согреться. Солнцестояние давно прошло, так что рассвета ты можешь и не дождаться. Ты не замечаешь, как вырастают многоэтажки на противоположной стороне улицы и как зарастают кустами ее любимые качели. Отворачиваешься от дороги, чтобы проверить свое окно: в нем бьется желтый свет — словно туда уже залетел китайский фонарик. Тебе видна ее потемневшая макушка: она курит в пластиковом кресле, в котором всегда курил ты. Переняла ли она и твою дурную привычку? Ты выбрасывал окурки в окно, чтобы не выносить пепельницу — боялся, что уронишь ее в мусоропровод.
Твоя жизнь — это вечный август.
Но однажды она напишет такую песню, что тебе больше не придется притворяться мертвым. Ты снова споешь ей свое любимое, про коня, и снова сможешь танцевать, хоть она ни разу и не видела, как ты танцуешь.
Если ты еще немного присмотришься к огоньку в своем окне, ты увидишь, как она машет тебе рукой. Тогда ты сможешь вернуться туда — хотя бы на эти три дня в конце лета.
Вместо ипографа
1Мэриё
В моей груди плавает закатное солнце,пряча звенящее в ушах биение сердца.
Зайдя в автобус, я сказал тебе: «Ты обратишься в прах и исчезнешь».
Давай представим, что я мог онеметь от своих же слов.
Я бросил свое сердце в звездное море, где цветут бумажные фонари.
Голос мой истлел, и ничего поделать с этим я не могу.
Хотя мне не грустно и не больно,
мне все равно тяжело думать об этом.
На заброшенной автобусной остановке я продолжаю ждать с зонтом в руках,
пусть ноги и привели меня на пыльный уголок ночного неба.
Смотри, как из-за этой боли я каждый день притворяюсь мертвым.
Но если бы я решил умереть по-настоящему, это был бы уже не я, да?
Разве не странно? Я знаю, что умру, но мне так горько.
Рано или поздно я умру, но мне так горько.
Потому смешай мою песню с красками этого мира, в котором ничего не знают про любовь.
Все равно я уже ничего не могу сделать, как бы ни хотел.
Я бросил свое сердце в звездное море, где цветут бумажные фонари.
Голос мой истлел, и можно уже не притворяться мертвым.
И хотя я все делал правильно,
я всегда слышал твой смех вдалеке.
_________________________________________
1n-buna — メリュー (перевод с японского мой)
Негативность бесконечного вопрошания: вокруг Батая и Бланшо
Вопрос, на который нельзя дать ответа, - что это? Пределы роста? Временное затруднение? Заблуждение? Сложно дать ответ или составить уверенное утверждение, иначе подрывалась бы перформативная и диалектическая игра вопрошания. Дать ответ на бесконечное вопрошание – это форма предательства. Но бесконечное вопрошание всегда уже заключает в себе ответ, пусть и не подает вида, старательно заметая следы. Этот текст – попытка показать анатомию этой игры вопрошания и утверждения, или же предела и трансгрессии. Главным образом, этот текст о тонких интуициях, посетивших Батая и Бланшо примерно в одно и то же время. Где-то на кромке этого текста будет затронут Левинас, но не главным образом.
Интерес к вопрошанию и оспариванию в философиях Батая, Бланшо и Левинаса обусловлен тем, что вопрошание и оспаривание есть ключ к нахождению абсолютной гетерогенности изнутри самого рационального дискурса. На поиск гетерогенного должны направляться ресурсы самого дискурса или, шире, языка. Ведь философия иного исходно заброшена в языковой порядок.
Будучи заброшенным, Батай заявляет о проективности собственного философствования, однако его философский проект направлен против проективности языка и дискурса вообще . Прежде всего, такой «проективной» и внутриязыковой диверсией против языка оказывается для Батая поэзия. Поэзия – жертвоприношение слов, избавление от их утилитарности и инструментальности, то есть путь от известного к неизвестному . Аналогично и для Бланшо литературный опыт и пространство литературы оказываются брешью в рациональном дискурсе, которая размыкает негативность в модусе воображаемого. У Левинаса тоже встречается актуализация трансцендирующей функции языка. Именно язык оказывается открытием Другого и путем установления коммуникации с ним вне субъект-объектной тотализации . Неслучайно философские построения Левинаса, проникнутые значимостью языка, томский исследователь М. Евстропов называет онтограмматикой. Словом, для Батая, Левинаса и Бланшо язык оказывается всегда больше самого себя: избыточность языка по отношению к его дискурсивной стороне может открыть перспективу подлинной инаковости иного.
Из такого трепетного внимания к языку проистекает значимость вопроса, вопрошания или оспаривания. Эти процедуры принадлежат языку и реализуются в нем, будучи знаками его принципиальной незавершенности. Деррида, радикализируя проявления вопрошания, относит вопрос к иному абсолютному началу, которое предполагает радикально иную достоверность, чем рациональная (античная). Это начало есть начало вопроса, который уже начался, но так и не был поставлен силами языка . К этой альтернативной «традиции негативности» Деррида относит, прежде всего, Левинаса, поскольку именно у него, по сравнению с Гуссерлем и Хайдеггером, вопрошание достигает размыкания абсолютно иного начала относительно начала греческого логоцентризма.
Процедура безостановочного оспаривания оказывается общим местом для Батая, Бланшо и Левинаса. Мы предлагаем удержать вопрошание/оспаривание как одну из ключевых точек схождения их философских проектов, поскольку оспаривание – постановка под вопрос – обладает статусом утверждающей и утвердительной негативности. В рамках этого текста нас будет интересовать тандем Батая и Бланшо.
У Батая внутренний опыт – это и есть постановка под вопрос всяческого знания о бытии. Внутренний опыт неизменно вскрывает иллюзорность какого-либо основания. В этом смысле интересен статус операции постановки под вопрос. Стоит заметить, что оспаривание и вопрошание экспонируются в тексте Батая не как дискретные риторические или аргументативные приемы, но, прежде всего, как специфическая настроенность по отношению к сущему: «…никогда ответ не предшествует вопросу а, что значит вопрос, если в нем нет тревоги, нет казни?» . Движение постановки под вопрос – себя, сущего, трансцендентного, абсолютного, основательного и тому подобных окаменелостей – совпадает с негативным разворачиванием самого мышления: мысль всегда оказывается выше себя, выступая за свои собственные пределы. Сам акт выступания на край возможного, то есть трансгрессия, является основной характеристикой мысли. Дискурсивный разум на пределе возможного плавится, рассеивается. Однако ход оспаривающего мышления может выступать и в не-разумных состояниях: стало быть, тревога, как задержка на пределе возможного, оказывается таким же средством познания, как и ум . Однако это познание открывает лишь знание о незнании, а незнание призвано разоблачать любое возможное знание как бессмысленное, расчищая пространство для всё нового и нового вопрошания и оспаривания.
Тревожное состояние – это тотальная постановка всего под вопрос, и в этом состоянии не утверждается ничего, кроме самой тревоги, меланхолии и бессмысленности любого познания . Тревога оказывается двойным движением как постановки под вопрос, так и знания о том, что этим вопрошанием утверждается только лишь само вопрошание. Казнящая радость. Таким образом, негативность тревоги как (не)знания циркулирует и на уровне содержания, и на уровне рефлексии, и эти уровни сливаются. В этом аспекте оспаривание и вопрошание открываются как квазисубстанциальные, поскольку их форма и содержание совпадают: ответ на вопрошание есть оно же само. Однако вопрошание и оспаривание нельзя полностью подвесить, поскольку они, по большему счету, являются процедурами, которые к чему-то приводят.
Пределом оспаривания и ответом на непрерывное вопрошание оказывается то, что Батай называет удачей. Удачу в данном контексте следует понимать как искусство быть, предполагающее аффирмацию окружающей действительности, согласие с игрой стохастического и неприрученного бытия . Жизнь в согласии с игрой случайных сил – это дионисийское утверждение, которое Батай выводит из аффирмативного amor fati у Ницше. Значит постановка сущего под вопрос – это вовлечение его в игру, то есть выплескивание сущего в ареал безосновного, бессмысленного и неопределенного. В этом пространстве игры единственным ответом на вопрос может быть только сама игра, а значит «мы без конца ставим все под вопрос, ставкой является все в целом, а ответом - сама постановка под вопрос» . Поэтому единственным мотивом желания знать оказывается желание вопрошать, оно предстает как «основание» знания, но само это основание – безосновно. Шанс достичь вершины невозможного может сохраниться, только если вопрошание окажется извечно открытым, словно рана.
Открытость и суверенность вопрошания концептуализирует и трудами Бланшо. Будучи идейным соратником Батая, Бланшо описывает опыт-предел, рифмующийся с внутренним опытом Батая, как немой ответ, который получает человек, решившийся радикально поставить все, и себя в том числе, под вопрос . Вопрошание и оспаривание проистекают из принципиальной незавершенности человеческой экзистенции. Незавершенность оказывается тем изъяном, благодаря которому постановка себя под вопрос открывается в своей потенциальной бесконечности. Бланшо настаивает на неустранимости возможности вопрошания и оспаривания, присоединяясь к батаевской критике негативности человека у Кожева. Если у Кожева человек может достигнуть абсолюта, преобразуя мир и втискивая его в собственное сознание, то у Батая и Бланшо порыв негативности, откликающийся на любой возможный ответ и ставящий его под вопрос, нацелен на бесконечное оспаривание, которое является разворачиванием негативности мысли . «Безработная негативность» Батая как раз и оказывается олицетворением бесконечного экзистенциального оспаривания любой завершенности и абсолютности в состоянии конца истории.
Согласно Фуко, бесконечное вопрошание, начинаясь у Ницше и продолжаясь у Батая и Бланшо, не устремлено к какому-либо основанию, но подпитывается неким беспозитивным началом . Вопрошание, как трансгрессия, есть постоянное преодоление каких-либо пределов. Однако следует учитывать, что вопрошание бессменно оказывается реакцией на какое-либо полагание предела, позиционируемое как ответ. В таком преломлении вопрошание кажется опосредованным, но Фуко приглашает нас к осмыслению другой стороны вопрошания как трансгрессии. Спайка ответа и вопроса изоморфна неразрывности полагания предела и трансгрессии этого предела, и это отношение оказывается вне оппозиционной логики: трансгрессия ничего не противопоставляет пределу, но она высвечивает беспредельное в самом пределе . В этом смысле трансгрессия, как и вопрос, принцип работы которых во многом аналогичен, оказывается не отрицанием, но различением, гетерогенным элементом, впаянным в тоталь(итар)ность предела изначально. Если гетерогенный элемент (вопрос, трансгрессия) не есть негация, то, согласно Бланшо, это некое утверждение, но утверждение бессодержательное.
Опыт-предел, доходящий до абсолютного оспаривания, ставит под вопрос и сам себя – ведь опыту негативности ничего не стоит подвесить самое себя. Агрегатное состояние такого вопрошающего опыта – взвесь. Отсюда опыт-предел, трансгрессивно зависающий на границе возможного, есть утверждение самого утверждения, которое утверждает лишь избыточностью утверждения. А избыточность утверждения проявляется в постоянном ускользании этого утверждения по отношению к каким-либо заготовкам смысла, смыслам-трафаретам. Утверждается, меж тем, лишь само ускользание.
Бланшо сравнивает чистое утверждение с броском игральной кости Малларме , в чем явно перекликается с батаевской имманентностью игры, где игра, то есть бесцельное и беспощадное движение, является как вопросом, так и ответом на него. В этом смысле негативность вопроса оказывается утвердительной, поскольку бесконечным вопрошанием и оспариванием утверждается лишь оно само, что доводит какой-либо смысл до его предела и ставит его перед лицом невозможного, тем самым образуя нонсенс. Фуко замечает, что неискоренимость и утвердительная негативность вопроса оказываются следом совершенно нового языка, который не принадлежит ни одному философу – это язык предела, который воплощается в трансгрессивности жестов оспаривания . Трансгрессия предела и предел трансгрессии.
Согласно Фуко, этот язык недиалектической предельности оказывается скрытой и вытесненной альтернативой диалектическому языку – языку тотальности и бинарных оппозиций. На наш взгляд, попытки приближения к этому языку как альтернативному истоку мысли ясно улавливаются в философиях Батая, Бланшо и Левинаса: Батай стремился к недискурсивному языку, который бы являл собой саму невозможность языка; Левинас старается найти язык ненасильственного сообщения с Другим в этическом ракурсе, исходя не из греческого логоцентризма как истока, но, скорее, из еврейского мессианизма; Бланшо же находит этот альтернативный язык негативности в пространстве литературы.
Бланшо характеризует литературу через письмо, а письмо — это опыт постановки самой литературы под вопрос. Именно постановка вопроса о литературе в тексте делает этот текст литературным . В этом смысле литература оказывается автореферентным полем, причем отсылая к самой себе в постоянной само-трансгрессии : каждое новое письмо несет в себе оспаривание литературности, а это оспаривание, как трансгрессия, оказывается символом негативности, поскольку требует осуществлять трансгрессию до самого предела возможного. Вообще сама литература, пронизанная циркуляцией негативной игры предела и трансгрессии, глобально ставит под вопрос сам язык. Схожая мысль есть у Батая, для которого как проза, так и, в большей степени, поэзия оказываются жертвоприношением слов и смыслов, которое открывает уровень сверхнравственности, связанной со Злом как свободной и суверенной трансгрессией .
Для Бланшо опыт письма родственен опыту умирания, поскольку в обоих этих формах опыта фиксируется прикосновение к абсолютно иному. Литература и окажется для Бланшо борьбой за право на смерть. Как и для Батая, смерть для Бланшо является основной формой явления негативности – оба исходят из кожевского толкования смерти у Гегеля как той негативности, которая «живет человеческую жизнь» . Однако Бланшо углубляет понимание смерти как негативности: кожевская смерть, как работа негативности, для него оказывается лишь эманацией «иной», более глубокой и «остраненной» смерти, а эта «иная» смерть предстает не как отрицание и преобразование сущего, но как сама невозможность умереть. «Другая» смерть уже не есть отрицание, она открывается как невозможность, находящаяся за пределами диалектической негативности – это не дневная гегелевско-кожевская негативность, но «ночная» негативность, безмолвная и абсолютно нейтральная. Нейтральность и безмолвность этой «ночной» негативности у Бланшо во многом похожи на то пространство немоты и всеобщей нейтрализации, которое Левинас по-французски называет il y a, или же «безличным наличием». У Левинаса также опыт безличного наличия – это опыт ночи, опыт анонимного потока бытия, в котором отсутствие всякого сущего оказывается присутствием самой бытийности, самого натиска бытия. В эссе «Литература и право на смерть» Бланшо открыто ссылается на концепт «безличного наличия» Левинаса . Это «безличное наличие», являясь глубиной ночи, оказывается изначальной бездной, выступающей как «основание» любых смыслов, которая, в то же время, исключает какую-либо позитивную определенность этих смыслов, исключает осмысленность смысла, выпячивая лишь сам факт их «глухого» бытия.
Анализируя «Игитур» Малларме, Бланшо показывает, что ночь оказывается таким пространством пассивности, которое изначально размывает какое-либо действие (как проявление творческой негативности Кожева). Поэтому ночь предстает как образ «субстанции» отсутствия . В этой ночи, как нейтральном небытии, Малларме прикасается к тонкой силе утверждения, а именно утверждения чистого отсутствия, причем не в операции простого полагания отсутствия как содержания, но в серии повторяющихся неудач ухватывания отсутствия, а также в череде заблуждений. Поэтому утверждение отсутствия – это перманентное уклонение самого отсутствия от какого-либо утверждения.
Невозможное – абсолютная инаковость - дается в мерцании на периферии литературного опыта, однако это совсем-иное невозможное оказывается основным мотивом и условием возможности литературы. В этом смысле литература и письмо позиционируются как то, что открывает подлинность, которая понимается Бланшо как подлинность заблуждения, поскольку именно повторение заблуждения, спотыкание об одни и те же грабли, открывает немыслимость небытия и инаковость иного. Поэтому Левинас говорит о том, что Бланшо удерживает подлинность именно заблуждения бытия, а не подлинность истины . Эта подлинность заблуждения оформляется именно как вопрос, вопрошание. В этом понимании вопрошания, как того, что утверждает лишь собственное спотыкание, Бланшо расходится с Хайдеггером, для которого бытийное вопрошание есть вопрошание об истине бытия. Вопрошание Бланшо призвано служить отмычкой лишь для темноты немыслимого. Отголосок этого немыслимого приоткрывается в поэтических исканиях ирреального, а ирреальное, по словам Левинаса, у Бланшо становится предельным «основанием» реального.
Значимость вопрошания и оспаривания для Батая и Бланшо исходит из их общей интенции к тому, чтобы приблизиться к опыту несводимой инаковости посредством выслеживания следов этой инаковости в явлениях чрезмерности и избыточности, проистекающих в данном смысловом порядке. Этот смысловой порядок оказывается для критики Батая и Бланшо, с одной стороны, мишенью, и, с другой, ресурсом, подпитывающим вопрошание и оспаривание. Наиболее насыщенным ресурсом для философий иного становится язык, который всегда оказывается избыточным по отношению к самому себе, и в этой избыточности Батай и Бланшо находят зацепку для аутентичной презентации инаковости иного – через саму невозможность такой презентации. Письмо, литература, вопрошание, радикальная коммуникация – вот те возможные инстанции, в которых улавливается след абсолютно иного как невозможного. Проблематичным же оказывается то, что эти инстанции, во-первых, оказываются неуловимыми и призрачными для рационального глаза, и, во-вторых, они остаются зависимыми от господствующих дискурсивных оснований, за рамки которых силятся выйти.