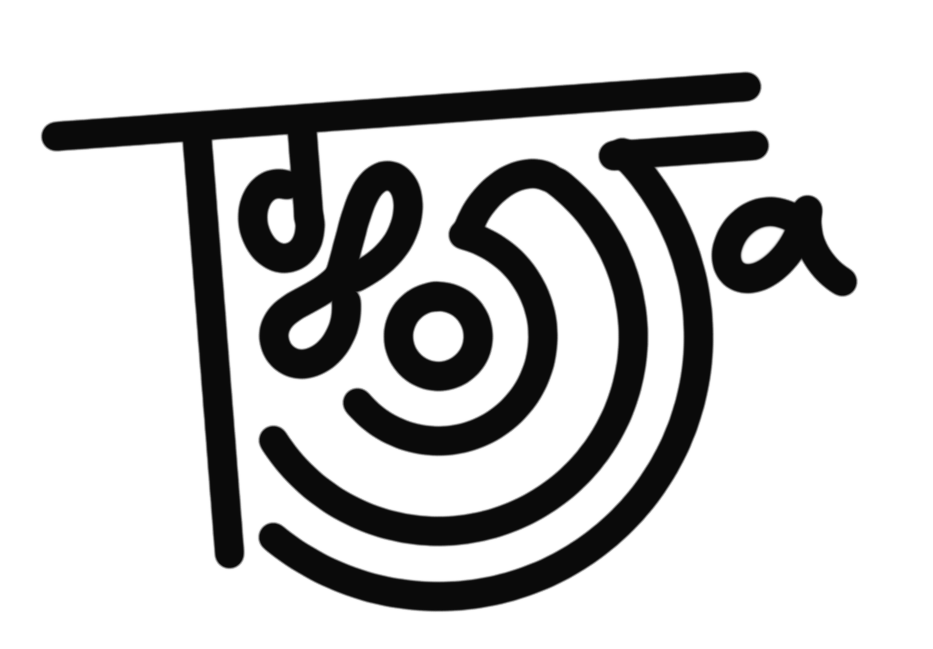Алексей Александров: Тисмия Нептуна
Валерий Горюнов: Перистощетинник
Егор Арсеньев: Багульник болотный
Андрей Любченко: Спирея
Варвара Росоловская: Рододендрон
Алексей Колесниченко: Мирт
Борис Кутенков: Глициния
Андрей Сахаров: Дёрен белый
Дмитрий Усенок: Пустоцвет
Ерог Зайцве: Дальбергия
Вадим Месяц: Нимфея Черепаший остров
Виталий Аширов: Львиный зев
Владимир Перепелицын: Вейник наземный
Егор Попов: Спорынья
Егор Евсюков: Остроцвет травянистый
Степан Давыдов: Гвоздика песчаная
Даниил Пяткин: Болиголов
Пабло Неруда: Шпороцветник шлемниковидный
Настя Казьмина: Флокс Фатима
Виталий Шатовкин: Люцерна
☯☯☯
1 Это первое, что мы увидели.
2 Его границы – границы магии.
3 Его облик – устойчивый труп.
4 Бог ничего ему не сказал, словно кошке (обомлел).
5 А мы говорим: «Тебя много, но до тебя не достучаться».
6 Его просвечивает серая вода. Кое-кого это настраивает на нужный лад.
7 В нем нуждается ветер.
8 Можно сказать, что это не зеркало, а можно сказать, что это зеркало, отказавшееся
отражать.
9 Кто разглядит в нем зеркало, тот кое-кто.
10 Мы знаем, что с ним делать, но это паника, а не знание.
11 Впрочем, последнее относится ко всему.
☯☯☯
1 У него редко бывает имя.
2 О нем сказано: «Неуязвимо то, что, глотнув пустоты, себя перепрыгнуло, что себя
мимо».
3 Днем он похож на ацтека, а ночью – на тень ацтека.
4 Хотя увидеть его сложнее, чем собственную душу, от него рябит в глазах.
5 Свою же душу он сбросил, и она, отлетев, стала чем-то вроде выдуманного времени
суток. Рожденные в это время суток далеко пойдут.
6 Его сон открывает дорогу к воде.
7 У него сумеречное расстройство личности.
8 Он еще вернется в Сальвадор.
☯☯☯
1 В ночи Советского Союза она танцует.
2 Будет два террора.
3 Но оцепенел песок в глазах детей, которые в умытых кабинетах прощались с
запредельем естества.
4 Но в амбулаториях осенних, где лампы и заря, кружатся темноглазые сирены
психоанализа.
5 «Не плачь, Рената».
6 «Дочь моя, мы тени неприкосновенных танцующие: Таня, Вера, я».
☯☯☯
1 Как и мы, он создан для падений.
2 Неготовностью окончательно сбыться он напоминает половозрелого лося, днями
репетирующего небрежные повороты.
3 Это вызывает сочувствие, но только у лишенных сочувствия.
4 Остальные считают, что имеют дело с железом.
5 Или собакой подростка гулкоколенного.
6 Или телефоном, с которого нельзя позвонить.
7 Ему не попасть в комнаты, к свету, черному от трав и насекомых.
8 И вот он стоит в саду, не выходя из головы дурака.
9 Избегающего жизни как определенности.
☯☯☯
1 После дождя сердце блещет, как грач.
2 Позади палисадники, неестественно синие, точно адриатические пристани под
равномерной тенью бездны.
3 Позади одуванчики и лоснистые капсулы тюльпанов.
4 В подворотне собака не гавкает, а кукует.
5 Метелки порыжевшей сирени, конусы свернувшейся крови, протекли на гипсовый шар
балюстрады (полый и легкий, как в цирке или во сне).
6 Вороны, подобно кенгуру выбрасывающие в прыжке ноги вперед, приземляются на
спиленные сучья, окутанные пухом.
7 Оно слабнет, прибывая.
☯☯☯
1 Она – зверь-переправа, зверь-глагол, грезозверь.
2 Она не испугалась змей, ибо неуязвимое не извивается.
3 Она нырнула, ибо испугалась воды.
4 Она затмила рыб.
5 Стала источником собак.
6 И хранит неимоверное небо Ирана.
7 Заратустра и Хлебников сложили об этом песни.
☯☯☯
1 Одни напоминают верлибры, или филигранные взятки Аполлону.
2 Другие – петляющий вой.
3 Носитель тоски по прозрачным территориям размышляет о холере психоанализа и
прохлопанных развилках мира: не те пути привели людское к розариям и падкому гипсу,
лодкам из сургуча, катамаранным станциям, которые обстукивает вода и никак не
поделят два надоевших бога.
4 Вот и трава расклеилась.
5 Но лучшие ищи на краю метро.
6 Там морось, слышно шоссе, и никого на желтых аттракционах.
7 Там в укрытом пластиковым виноградом и пленкой, пахнущем дерматином сумраке
разбирают ликеры под грохот исповедей зэковских скальдов, ожидая человека.
☯☯☯
1 Оно для поэтов, потому что в нем всегда ночь.
2 Уже не слышно моря, оперы беспозвоночных.
3 Мраморные ядра расколоты и вознесены.
4 Собирательница отлепляет от стен кальцитовые яичники винограда.
5 Лимбический субъект рассматривает ветви.
6 Все встречи ложные.
7 Тем не менее руководствуйся голосом и железом.
☯☯☯
1 Смерть – тишину и смелость – оставь ради кропоткинских стай.
2 И районов, чье бремя – хрусталь, недоявь, зори, ремиксы на кровь.
3 Все, кроме музыки – это и будет музыка.
4 Подражанье огню – это и будет ложь.
5 Ледяное сновиденье предметов – это и будет сентябрь.
6 Отмеренное инстинктом – это и будет искушение.
7 Точно попадая, переваливаться из одного искушение в другое – это и будет
самоконтроль.
8 Сдать двойников и нести одиноко животный опыт обмана, вынутый из молвы – это и
будет тоска.
9 До нее далеко.
☯☯☯
1 В них есть щи, хрусталь и вещи.
2 В вещах зернится шторм покоя: пощелкивают выводок Ленинградского фарфорового
завода, сердобские часы с кукушкой и керамика «Леруа Мерлена», оклеенная засохшим
мочеточником монстеры.
3 Лежа между линолеумом и битумом, вспоминают черемуху и трепеск в заезженном
дворе.
4 Ждут вывоза мусора и смены звезд.
5 Ждут возможности подставить вторую щеку, как того требуют люди, которых никогда не
били по лицу.
6 В прозекторской русского марта зажигается свет.
7 Старое электричество пахнет мочой.
☯☯☯
1 Я людям родила глаза.
2 Я намочила в скипидаре школьную юбку, обтерла певчие кости шахтера.
3 Светилась трава как выключенный свет.
4 Шахтер! Земля есть одержимость, и смерти нет.
5 В Ухте бликовал черный селезень нефти.
6 Тогда возникли обверженье, жадная неподвижность грез, известь и ежевика.
7 И дожди, и вы в ласковых белых спали домах – по аллеям США, над шоссе, проходящем
сквозь город.
8 Утром улов ледяного зрения: отсвет машин на кухонной столешнице под мрамор.
☯☯☯
1 Как и искусство, она добивается гипноза. Ее смена – смена средств.
2 Зима стоит круглый год, но мы видим ее только во время зимы.
3 Если в бытовках пахнет слежавшейся тканью, это к дождю.
4 Осень опытна, а значит, опасна.
5 Летом женщину тормозит зеркало: на грудной клетке серые поводья синяков.
6 «Та игра хороша, которую можно бросить, но нельзя забыть.»
7 ^ Так говорил апрель.
☯☯☯
Там, где города едят друг друга,
Запивая морем или рекой,
Есть землянка тайная, в ней живёт
Семья простых рыбаков.
В магазинах дорогая морская трава,
Каждая рыбка на вес золота,
А они мечтают накопить на дом
И стиральную машину.
Сбываются потихоньку страшные сны,
Рыбы начинают говорить наяву,
Строится подводное царство
Из камней и тины.
А рыбак ходит на берег и просит
Милости, не надеясь получить взамен
Ничего, кроме вздыбившейся волны
И разбитой лодки.
☯☯☯
Многоножка дождя
Ползет сквозь уснувший город,
Шуршит юбками,
Разговаривает сама с собой,
Словно уборщица в офисном лабиринте,
И вдруг видит человека,
Бегущего с зонтиком наперевес
В непромокаемых доспехах,
И от удивления забывает с какой ноги
Надо сделать следующий ход,
Смущается и никуда не идет.
Будь у него супница на голове,
Думает, я бы наполнила ее
До краев своими мечтами,
Придумала бы ему тысячу имен,
Подарила бы ему коня,
Поднесла бы воды стакан.
☯☯☯
Им бы понедельники взять и отменить,
А нам бы вторники с этой рифмой,
Сметающей всё в железный совок,
Зарастающей косматою бородой,
С анекдотом про убегающего мальчика,
С птицей, прилетающей в глухую полночь,
С барином, приехавшим тайно из Парижа,
С только что выпавшим снегом.
Утром проснешься, метла ширк-ширк,
Снова среда, а то и четверг –
Рыба жарится на огромной сковороде,
Объясняя прохожим, о чём был сон.
☯☯☯
Все реки текут вспять,
К чистому истоку.
Выпей и ложись спать,
Ждать недолго.
Кость обрастает мясом,
В кустах поет соловей.
По реке плывут брассом
Те, кто утонут в ней.
Выкопай семечко из земли,
Смотри, как пульсирует кожица.
В небе мыльные пузыри
Лопаются и множатся.
☯☯☯
Город каменный — в чей огород?
А в степи одноэтажной
Воет пес, и на загривке у него
Дыбом несколько кустов
Ягоды должно быть волчьей.
И река течет из-за угла,
К старости впадая в море,
Тащит лодочку, бревно,
Словно муравей –
Всякий мусор в избу.
В небесах горит бумажная луна,
Под землею солнце говорит
Медным голосом таким,
Что паровозы останавливаются:
Скоро, скоро я поспею,
Выкопай меня,
Отнеси к себе домой.
Повесь на крюк,
Танцуй вокруг
Меня и пой.
☯☯☯
Детская комната,
Вспомнить пора
Слона без хобота,
Доисторического комара.
Толстая кожура,
Желтая пустота,
Прозрачная тишина,
Погасшая звезда.
Без капли крови,
Без боли, без воли
В густой смоле
Миллионы лет.
☯☯☯
Сумчатое, чемоданчатое,
И чем дальше в лес, тем больше.
А в остатке — стены голые стоят,
И на них слова незримая рука выводит,
Как на медосмотре — годен, проходи.
А хотелось в тёплой норке век прожить.
В небе облака переставляют с грохотом,
И во рту горох железный.
Если это не Астралия, то где
Мы все ждём на берегу унылом парохода
С морячком неунывающим, с покрашенной трубой,
Из которой по условию задачи вытекает
Жидкий дым? И в чём тогда решение,
Если неизвестно с какой скоростью?
Да и если встретятся, пройдут
Мимо, не кивнув, не подавая вида.
СЕГОДНЯ ЗЕМЛЯ – МОЛОКО
Растения рождаются с сосательным рефлексом, таким же, как у животных. Так они говорят с землёй под накидкой для кормления на улице.
Земля – неразлучное молоко. Туманы намекали на это, но были молочной ложью. Настоящего молока не видно, пока не возникнут цветы – сливки отогретой почвы.
Корявым голосом мха на камнях скворцы сигналят о моем появлении у дупла. Скворцам тревожно, они требуют покинуть их оборот вокруг солнца.
Дома я извлекаю из подпола новорожденного котёнка, сосущего губами воздух. Он повторяет алфавит отогретой земли.
☯☯☯
комар залетает в ухо
прииском звучания
и я становлюсь добычей
асфальта
в его теле зарастаю смолой
укус начинает
говорить отражая событие
когда я стану асфальтом, слух перестанет зудеть
всё ответы уже есть внутри
наружный танец
роящихся насекомых
разваливается в
подозрение:
я сердце оставил повсюду
его пыльцевые камеры
заражаются эхом
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО УСТОЙЧИВОГО РИСОВОДСТВА
"Вековые и внутревековые колебания климата и природных процессов определяются многими факторами, но главными, по общему мнению, являются изменения активности солнца"
Рис. 1
Веки солнца нависают поддонами туч.
Квадратные границы
рисового чека [языка]
разрешают оказаться в составе пара.
Наливное облако скатывается вниз
как вторичный фактор
климатических колебаний.
И камни вспоминают
точные даты рождения.
"Чистый пар приводит не к обогащению, а к обеднению почвы органическим веществом и азотом". "Наличие в почве окисного железа для риса имеет большое значение, как источник кислорода, особенно в первоначальные фазы развития"
Рис. 2, 3
На руке красный след от убитого комара,
подобие проросшего семени.
Трещина крови,
железо смерти, посвященное
земляному дыханию.
Охватываю земельную долю
следом
состояние облаков
печатает капельный урожай
"Сезонная смена переувлажнения и просыхания рисовых полей приводит к периодичности протекающих в почве микробиологических процессов"
Рис. 4
Солнце неустойчиво,
и цикады крон
подчиняются ритмам
его появления и унятия.
Испытываю потолок языка
на хрупкость, но проблема в том,
что он появляется
в том же раскидистом ритме.
Свет скептичен
в отношении устойчивости
сбора урожая
из камня.
"Урожайность определяется не только суммой эффектов от воздействия различных факторов, но и особым эффектом их взаимодействия"
☯
будущее на неподвижном веере
морского гребешка –
ритмичной картине осколочного
перламутра
шероховатые грани обманывают
безликую силу частиц
блеском
оттачивая запечатывая
солнечный шар
спор, возникший в лучах:
кто разрезал пангею неба
кто явился бессоницей-облаком
каждый именуется тенью
u
погода видит из приоткрытых –s t
с затвором объективараскрывается будущее –
маленькая девочка
по имени Маны́
ПЕРИСТОЩЕТИННИК
иная реальность
около моего дома
на клумбе
аура пылевых волосков-
антенн подающих сигнал
в сердце
выводящее
семена в прозрачный огонь
касаюсь колоса: на ладони
сепия живого пепла


белая лошадь на городской площади
Лопнула грыжа костра, завертелось на языке. Пронёсся хохот. Необутая alalia sensoria фальшивила. А кто в поезде родился? Полощет рот, а вода оттуда жёлтая. Течёт тепло в водопровод, моют тоннель в 4:40 утра. Подушка топорщится с двух сторон, как ноги, укутанные в одеяло; лица не видно; голова всё сильнее отделяется от тела, всё глубже тонет. Цветёт, пускает корни в трубы, не видать тепла, цветёт запахом земли, цветёт болезнью.
Открыл умершему дверь:
– Ты что здесь?
– Кошка пугается.
Если спрячешь столовую ложку, "тайное становится явным" не сработает. Вот дом, где праздник, кот снаружи, мелькающие кусочки света, пруд с низко склонённым над ним деревом, с которого ничего не падает, много рябых кругов, как тонут одни, приходят на их место другие, бегущая собака, тишина – и жужжание листьев у самых чернявых макушек. Потом, ты когда в детстве растёшь, не бей синее стекло, иначе не помогут ни спрятанные ножи, ни клич боевой: обронишь голос за шкаф, он тебя звать будет, волю навязывать, ищи-свищи: клопы, вши и клещи соберутся в буквы, слово сложишь и уснёшь, проснёшься: стихотворение; сядет дедушка против кануна, заплачет, я сяду рядом, посмотрю.
Снег пойдёт/пойдёт и тишина/праздник укротится/красота отступит/только голость и серый холод/и чудо рождения. А замерцают на ёлке сигналы – поспешит скорая сквозь чёрный и зелёный снег.
Забренчат бубенцы, заволочет дымом, не случится, не испугаешься. Бутылочные лица с истёртыми ртами:
– Расскажи, расскажи!
…Паруса сидели на волнах, свесив свои канаты…
– Расскажи!
…Там, за изгородью полуночи…
Возле кладбища дрожал от жары воздух; тени крестов тонули в невиданной ряби, их плечи вздёргивались, я воображал крестовый хохот; отцова семья; слишком орлиное лицо и тонкий тихий голос, больше детский, а мама говорит, надо всегда поднимать монетки. Зачем ребёнок? Буду ей хозяйкой, необутая. Она же добросовестная женщина, она уборку сделала. Я косноязычная женщина: прошу меня простить, но запах! запах стал понятен: соцветия костей около ушных отверстий и церемония утренних вшей – поцелуи в лоб. Видимо, как наклонившийся сказать на ухо складывает ладони, убыстряя тишину, видимо, как приносится молитва слуху: та история с мокрыми вещами и мотыльком в углу, который затем исчез, и тень мелькнула около ноги, но это был не он; неизвестно что это было.
Шеи взвиваются-вьются вьются канатоходцы вслед за ногами и шеями вслед за зрачками и радужками вьются-взвиваются горла и связки и голос и пояс тазовый и плечевой до… Мало ли можно изобразить раскрытыми к зрителям ладонями, только если не жёлтые они, и не старые, и домру не держат, играя? Вот она перестает хмуриться и даже начинает улыбаться, если смотреть ей на лоб. На улицах Лючжоу ловили луну, ловили у жёлтой церквы с зелёными крышами и чёрным куполом – сразу за теплотрассой, где трое неустановленных жгут огонь в куче мусора, сорвали мяту смятую, выменянную на горсть, прыгнули за провалившееся окно, разминулись с листвой, карабкающейся на забор ладонями листьев и полиэтиленовыми ногтями, упирающейся травяным телом; деревянным упирающаяся станом листва, листва не победит бессильная и умолять не станет. У головы два окна, а ловили луну, ловили сбившийся шаг, упёрся ножик в щёку, разбудил улыбку, сболтнул паутинку слюны сглотнул и завернулась перепонка в ухе и сустав и связки онемевший слух расслышит явь между свёрнутым молоточком заоконным шумом между шумом стен пустотой между стенами между – скрипом! – рябым шипением в вакууме открывшегося протиснувшегося простиравшегося по самым стенкам – скрипа! – и, обретая голос, завоет зашепелявит, не случится; не испугаешься.
Вдох не услышал, выдох принял за движение головы по подушке.
...Порез на темноте комнаты приоткрывшаяся дверь и кто-то то и дело смотрит на меня оттуда тени мелькают пробегают нет-нет кто и остановится посмотреть ближе дальше любопытные тени осторожные тени смотрят на чужого ребёнка из праздничной белой комнаты в тьму наутро не вспомнишь потом не вспомнишь станет как сон далеко только тахта комната темень и белый на ночи порез сквозь который...
Стояли время говорили, ждали, когда уйдут в нужное место. Колотил метлой по булыжникам, разбрасывал лопатой, сидел вполоборота. Пигментные пятна на плёнке чая, и у гармошки всегда кудрявая музыка. Полдень? Выпавший чемодан со второго этажа и – следом – китаянка. Мат-перемат. Тут же в траве собачьи лапы, похожие на старые волокнистые ветки, и крысы, спящие прямо на них, как опрокинутые стаканы. На распоротом брюхе солнечный зайчик. Скорая – чёрная машина с закрытыми стёклами – три птицы – пять птиц. За окном ещё не расцвело. Я буду быть.
Завела одну ногу за сумку другой упёрлась тонким ботиночком что иглой циркульной голова приклонена к правому плечу глаза распахнуты рот приоткрыт длинные зубы острый нос длинные пальцы ногти которых скрыты бугрятся мокрыми песочными башенками сумка у ней клетчатая платок клечатый сидит на квадрате бетона битая сидит сидитсидит, вечер?
Примёрзшие к перекрёстку листья блестели, будто битое стекло. Ты там же, там же…
– Расскажи!
…С нами сыновьи сны…
– Врёшь!
…Шесть птиц в одну сторону, одна в другую; плачущий в красном шарфе, напротив…
(если сбудется, погаснут разом три фонаря над вокзалом)
– Не было, не было!
Шкаф развеет свои пиджаки и рубашки, одним воздухом лопнут трещины, из трещин сложится чужое лицо, распростёртая к западу птица с крылом как корона, роговица диадемы, меднокурчавые шрамы на колоколе волос, увидишь, узнаешь, распахнёшь двери, выскочишь! Не испугаешься, не случится. Зажгутся огоньки желудей на аллее за твоим домом; озарится пустая городская площадь.
Утро?
Мера
Антонову
Юлию
Степану
низинам елецким
изобретению фотографии
торговле людьми
и тебе, чудотворец высокого роста
Поставим забор, выроем церковь, посадим нищего вокруг жестянки. "Тепло ли тебе, чёрненький? Тепло ли тебе?"
— Не трожь, у него в голове ослы-миряне!
Ветер цепляется за выступы на земляном лице и свистит; тёплое, как тесто, лицо, сбитое с орбиты ушей. Ха-ха-ха, нет лица у подлеца, есть этнический ожог, нет у Этны высоты, там поселилось вороньё, ночь да лиловое зло.
— Вы кладите побольше, сахар несладкий.
Только вывих тяжёлой да яма в земле, пакет, к раме шестого этажа привязанный, на что похож? Да на ящерицу, шельму солнца! Слышишь, сливаются с нею черты пролетающих птиц, пятна на стенах становятся лицами, пеною лиц. Покрашенная свежей чёрной краской ограда, чёрные глянцевые брызги, ветки чёрные низких деревьев, высунутых через прутья, как руки из автомобиля, знаешь, на высокой скорости; скупой свет окон нижних этажей стоит ржаным камышом, шум с дороги, лёгкий дым, чистого ветра запах.
Стоим, курим.
— Вон смотри [слово]. Да вон [слово]. [Слово] — это... по-турецки. Фрукты.
— Турецкий знаешь?
— А, не, я только буквы и слова там... Там как в английском, только снизу ещё так (показывает)... Вот так. Буквы как в английском.
Стоим, курим. Мужик подходит — никотином угости — стреляю.
— О, 750-й. Это... Лексус. Последний, да. Дорогой, пи-издец... Там, пацаны говорили, тысяч 50-70... Ну, долларов.[...]На, затянись.
Затягиваюсь. Стоим. Уходим, в лифт.
— Вон быстро как. Я когда пришёл в первый день, улетел сразу на пятый. Ну охуеть думаю резво. Да...
В монастыре с раскрытыми стенами и жёлто-болотными окнами; во дворе ватага бегает по траве, во небе штрихи на безоблачье, как полосы на моментальных фотографиях, моментальные штрихи, местный нищему рассказывает о важном.
— Три вещи!
По привычке показывает три пальца, одного осталось наполовину, получилось две с половиной.
— Три вещи!
И показывает четыре пальца, одного осталось наполовину, получилось три с половиной. Так рука, открывая окно, срывается, и тощее высокое лицо, узлом завязанное вокруг длинного носа, поёт.
— Царь небес! Успокой дух болезненный мой. Заблуждений земли мне забвенье пошли, и на строгий твой рай силы сердцу подай.
В 22:50 прозвенели церковные часы, и короткий большой мужик потащил во двор одноногий стол; единственный перед рестораном. Ему казалось, самый ближний огонь — два далёких шара со строительного крана.
Вот улица, где всё погасло минуту назад; вот окно на эту улицу; ?.. Вот резкий звук, и, думаю, ты закроешь сейчас окно; выглядываю, вслушиваюсь; выслушиваю сквозь шипение короткую отмашку рамы о створку; вот — что-то!.. Нет, только дверью хлопнули за поворотом, под окном, перед киоском. Шипение прикладывает силу; из-за дерева выезжает грузовик с широкой щёткой; слух материализуется, — тем заполняется начало четвёртого; давно светает; ещё темно. Особый жёлто-зелёный из окна напротив; 3:13; напоминает о чае, так и чай когда-нибудь напомнит об окне; неподвижно, и птицы мелькают меж ним.
Посадим нищего вокруг жестянки, даст корни рыжая свалка.
— Не трожь, у него ослы в голове, ослы-партенопейцы!
— Хочу булочку купить, а то там камеры постелили, пиздить не могу.
— От чёрной воды деформируются зубы!
— Я говорила Татьяне Васильевне, что мы так не делаем!; а они делают, каждую среду.
Я видел, как двое рядом идущих мужчин держали по-горилльи кисти рук, подзывали одного-единственного голубя.
— Я внутри напрасная! — закричал им голубь.
Гамаки под его глазами были лиловыми. Стояла рядом на коленях, сложенная напополам, клюкой отгоняла прибивавшийся мусор.
— Помогите — пожалуйста — на лечение!
Площадь рядом покрывалась зонтиками. На вокзале сильнее видна перспектива; много дыма идёт по ветру, пытаясь слиться с дымом, но, как известно, ничего не выходит. А в метро человек, подтянутый и загорелый, смотрит видеоуроки по изготовлению миниатюрных взрывчатых элементов, которые легко помещаются в рукаве. Что мне сказать? Только то, что вы уже знаете; метро быстрее дыма, но исчезает перспектива.
— Сидите, масло кусками накладываете!..
Добавим: одноглазый парень по прозвищу Щека, его друзья Сопля и Куча, старый человек для равенства, где-то бродящая собака, обязательно небо и глубокие родственные связи. Было тихо, а потом появились эти... в поисках работы.
Рябина желтизной поросла бурой, как кот небольшой среди голубей — или кошка(?); может, это игра про "а и б" (только там не все буквы прописные); может, в сбербанках нет пропорции [молодой сотрудник в окне < пожилой клиент] (давайте ещё раз: пин-код и зелёную... да, можно забирать); может, чек — свидетельство ошибки, проверяемой с приставленной тростью (или клюкой, что зависит от красоты рук {хотел сказать 'видимых', но других не знаю}, а к рукавам отношения не имеет); пластырь сидел на нижней губе, как белая муха, только тот печальный, с ним ясно почти всё, а на этом не было ничего. Это был мужчина удалой, мой друг. Женщина с тремя сумками, три пыльных пластиковых стакана, поставленных один в другой, преломившийся троекратно свет, будильник, положенный нищим под голову, где уже два пакета: чёрный и жёлтый; прочее утро, зыбкие капли мелочи у тех скамеек, где уставшие крысы с невесомой серебряной проседью.
ты ведь прахом была, и больше, чем прахом, тебе не быть, сказал бы чашке гончар, если бы мог говорить
Посадим нищего, пусть воду пьёт и собирает со ступеней луковые шкурки, загребает огонь листообразно сложенными ладонями (листья шершавым кверху), глотает Ворсклу ворованным стеклом дальше мысйли и металлического тцоканья часов.
Разлепляя белые губы, открывается белый рот, из-за белого солнце (панцирь морского ежа) шепчет: никто не умрёт, у первой жены седая прядь и у дочери седая прядь, посмотри, посмотри, я и здесь и там старею, не могу быть и дочерью, и женой... Как не можешь? Ты же умница, умница: хлеб собери, петли смажь; кричат петли, как красные утки.
Посадим нищего, спрячем реку в трубу, оставим кружок воды и точку грязи, замелькают клыки...
— Не трожьте его!
7 О СОЛИДОЛЕ
(фрагменты)
Автокомментарий (так принято?): Iванiв говорит, должно производить такой же эффект, как выпитая стопка водки на поминках по любимому родственнику. В такие минуты водка и «Прима» меняют свой вкус и становятся сладкими. Мы согласимся, будто бы оно важно и хранит смысл, имеет цену и значение. Однако, на самом деле, ЭТО просто напросто не проходит, не отпускает. Не покидаешь одиночества стула и письменной поверхности, но мёрзнешь в вонючей очереди, где у всех руки трясутся. Вот – один зажал зубами, и звон затих. А «мы» – это в смысле «я». Не «мы согласимся» – я. Я – зажал зубами. Впрочем, попробуйте, может, и ваш звон затихнет, буду рад. В резюме единственная строка: умею читать и писать – и ударению предоставленная свобода. Как недоверие к первым конструкциям – ещё в голове, на стадии головы, на стадии паха ума, – такое недоверие, внезапно открывшееся. А, как правило, наоборот.
48(дальше дальше)
ну что отказ сказал отказ не отказ сказал_ла_ли_ло
сверху внутри лило по обе
гружёный туменами ЗИЛ-КамАЗ-обоз коптит
гружёный батонами ЗИЛ-КамАЗ-обоз коптит
гружёный медалями ЗИЛ-КамАЗ-обоз коптит брызжет
радужный солидол отпрыгивал_ла_ли_ло пока мимо
шёл-шёл-шёл этот столб обоссан шлагбаум вешка
шла-шла-шла и этот и этот
шли-шли-шли
шло-шло-шло шло-шло-шло шло-шло-шло с горки и-и-их
воротишь не воротишь
львы видели молчат они львы осыпает и их
57(2)
воспоминания о солидоле
дёсна о солидоле
при похмелье солидол
при Царе Горохе солидол
табельный наследственный людской
в рифму и в ногу
на голодный год
солидол как после Кризиса нулевых
сходу солидол вопреки
при до конца не выясненных обстоятельствах
на расстоянии плевка
солидол ниспосланный в виде благодати
по глазам солидол вслед
смешон обозлён цицерон
в виде модели галактики в случае сходства
по почтовым ящикам солидол
по договоренности солидол
по заслугам солидол
по Карла Маркса солидол
9
жизнь за ночь не стала возможной
на выдох постель застилают по зову
никто не знает по какому
в каше комки всё мокнет массирующими движениями
втирается солидол куда надо
что дано то дано по Ожегову по рисунку
жизнь продолжительнее и невозможнее
чем Лена и Нил антресоли долги
чем сопли в посольстве
24(съестное)
Мишку звали Самосвалом
он здесь каким-то образом
он здесь с большой головой и кожаным портфелем
там хлеб с маслом Самосвал не Волга
но широк как молва съест порт как торт пожалуй
там хлеб с маслом Ожегов дела
учебники новые и ветхие
похожие на справочники по товарам
Мишка с портфелем шагает из февраля
месяц март поверяет инспектор на кухне
счётчик солидола в общий рабочий день
Мишка следит во все стороны насупившись отпросившись
Мишка март поверяет лужами
и кушает суп с фрикадельками кашу в кашпо на второе
Мишка ведь он Самосвал
53(дом)
Заройтесь в цветы с одуряющим ароматом,
задыхайтесь в мускусе, ешьте гашиш,
а главное, любите, любите и любите
Чехов
солёные воды в лёгкихфекальные воды в сердце
или же сердце оно кефаль малёк
бьётся килькой о киль
фрегата Солидол
он красивый серый эффективный
циклоны продувают палубу лёгкие доносят доносят
из подъездов на батарее блузу и юбку
пахнущую цветами лестницу
пахнущую кашей гашем ссаками и цветами
тук-тук-тук-тук-тук сердце ли
27(суп)
наверное не столько по уголькам по экранам
впрочем кто мы индюки
не представляем базарим
откуда нам знать гадая по солидолу разве
все в глубине конечно
надеемся что неоткуда
мы индюки то бишь думаем думаем
вслух к сожалению
19
силились прикинуть
конечность мира
получилось в виде локтя манекена
оторванного или с пластмассовой гангреной
и лопнуло ведь то диван диван
на нем дивы другой маасдам
и всё равно страшный диван
диван достался вроде бы ура
но и тот страшный шумит
с прикидками и жизнью рисом и сигаретами
прогулять жизнь в кабаре Солидол
на Звёздной чтоб он потух мир мир
говоришь получается время время получается
холод холод Чарский песок в январе получается
когда говоришь

сосед он поп он ест попкорн и в скорби
он то-сё фига с маслом когда в Гефсиманию с попадьёй
летал в свой сад за стадионом кота припёр
или тогда вот или у сестёр её на плечах норки
доктора-то они привозили Гефсимания фу-ты ну-ты фисгармонь
он от печени он от печени печени фига с маслом попался попался
лекарство земля чтоб тишина лекарство земля только

путает поле волос
по пути привел бурое облако
и оставил
чтобы было чтобы рты его ругали
эти двое тихие на вид
но вдруг в дверях она горько как сено сено
ты мне деверь я тебе дерево на эл

однако изучение плодоизгнания показывает что аборт восходит к ранней заре человеческой цивилизации к плодоизгнанию прибегали во все времена и все народы в известном папирусе Эберса уже имеются указания как прервать беременность из папируса видно что египтяне употребляли как месячногонное средство чеснок и вино в равных частях кроме того они применяли такие средства которые сохранили своё значение и по настоящее время например шафран солидол ягоды можжевельника морской лук плодогонные средства были хорошо известны жителям Ассирии Вавилона Древней Индии и Персии
16
к синяку вместо льда яблоко
яблоко под кожицей цвета молока
не выпускать клок удивляться
как дрожат на нём блики
прям библия сердце
ухает в яму и взмывает
сказано стоит дебил бля но даже если не слышать
что-то тянет на том сердце
положа не руку ноги какой-то солидол
либо лямблии
и поэтому всё на вкус снова мел
и мял не ласкал не лик мина
это обидно
47(куда)
жарко соху бы сбросил с себя на Жангельдина
встретил в продуктах Гульшат с 3-й парты работает соло
но спросил но спросила а ты он подумал и промолчал
для туристов выставленный лось однорогий лишайный
это сколько прошло а встретил детей после на Щербакова
Солидола и Лиду
ничего не отозвалось
14(цвет ток)
за солидолом идёт цыган
он гиацинт
он подготовил рот для забот он молод
среди номеров Дальневосточных и Продольных улиц
словно царёк среди их оград и срубов
продам хонда фит робот
сдам койко-место он молод он молот
он цветущий лом и пустынный мол и гиацинт
пока не вспомнит пока не вернётся рацио
тогда он на нитках тогда он цинга
тогда он как целка ему говорят чё как целка ему говорят
жужжит мопед шипит в экипаже рация они прикормлены
во рту понесёт солидол цыган это утро
здесь по всем номерам утёрли
и не подходит слово поцелуй
не расплескать бы не проглотить бы если ещё умён
по-их по рацио говорят
15(рыцарь)
старый в конце дня
курит красный салiдол
чешет руки сев на бордюр
сегодня во дворе веселятся выпускники забыв дроби
а за окнами цёткi-сумкi варят супы
они з клёцкамi они пахнут
а выпускники шумят но как лес не крик в ведро
старый запахивает ждёт фейерверков гадает
может там и его
когдатошняя невеста
6
окреп только на третий солидол
встал с дивана и пошёл
прочный твёрдый обильный в соответствии
а ведь ел черешню с ладони
так ещё лошади едят
говорил не могу не может быть и речи
лёг пролежал нем
до третьего солидола
и только потом стал кем стал
то есть на самом деле
отвлечённым далеким не отличившимся по меркам
возвышенным хилым по существу
до павильона встал и пошёл
вот он только взгляните каков
он есть глазам поверьте
12
с вечера тихо в чёрной реке
сборщицы добывают речную черешню
в робах внаклонку вброд
в роще палатка там на горелке
зрячая сварит борщ в него влита водка
борщ валит на лопатки сварит вдова она с Ропши
она не одна
рыщут по дну задубелые фаланги собирают на ощупь плоды
в торбы на спинах друг друга
в связке чтоб не разбредались не тонули не
кто-то шепчет раззява кто-то лафа кто-то факает кто-то
хочет взять ноту но давит сев на дно лбом к устью
шоркает река Солидол крошится Земля
утром весы
45(сказка-указка)
бегут слова лосей
несут слова лосей
с Тепсея вниз где пологий склон
лови лови ноздрями мороз ртом
воспались полями
осоловей саркомой и листом
Россия стынет она том
а на том берегу
анатом сохатых сидит за партой следит в столовой
такой ля-ля-ля у-ля-ля
Красноярск Тура Ессей Солидол Саха
вот он вагон-балкон болтается простыня занавеси слова
слова слова река со льдом и следами слова
слова слова лишайник для дней соль дом
лишайник лишайник чего лишил ого
во дела слова бегут слова слова бегут
анатом скальпель облизнул ну давай по новой
и на этом и на том
на любом берегу любом не любо не любом если сохатым лбом
50
где ты покажись легка
где сняла сапоги носки
сед не сед сказал не слышит ухом тужится
и больше нет ничего совсем нет но
не смей трогать моего мотылька солидол
не смей трогать моего мотылька солидол
ждёт сказал не того её
о ней о женщине думает разулась или ещё стоит
код подъезда вспоминает и пахнет ей прелой землёй
стоит ветки голые длинные как её ноги над и в но
не смей трогать моего мотылька солидол
не смей трогать моего мотылька солидол
пошёл пошёл иди иди я ничего не понял
бормочет он равносильно перед листом
☯
лена давай
баскетбольным мячом
взорвем нашу школу
на месте спортзала
вырастут маттиолы
☯
муравьиная королева
расправляет крылья
из японского шелка
не рой себе яму
кричат ей вдогонку
☯
шатер, устланный войлоком
кувшин гулкого молока
и бесприютная
мышь-монголка
в груди моей
свернулась треуголкой
☯
язык тополя – топонимия, то есть поле
☯
инфантильность:
фантик под стеклышком и цветочек.
сердце своё
закопай в песочницу,
потому что детство закончилось.
☯
как отцовский запрет
как строжайшая заповедь божья
я сидел в пятом классе
царапал на парте:
«мне можно»
☯
сбежать с математики
и в небо закидывать кеды
в полях выгибались
параболы-велосипеды
☯
дислексия – я иду по тонкому льву
☯
физичка рвала глоссарий:
«...децибелы»
зашкаливали
на геометрии плавали
камбалы и скалярии
☯
суставы гвоздики –
башня Останкино
считать по костяшкам
станции и соборы:
високосные
Воробьевы горы
☯
на каком языке
с тобой разговаривать?
на языке цветов
нарциссы для тебя обычный цветок
на языке птиц —
верлибр
на языке стихов:
я не люблю тебя
но целый месяц ждала с работы
☯
от
станции
к станции
без билета
бегу по ступеням,
роняя стихи-сухоцветы
передо мной закрываются двери
в тоннеле поезд гремит
и поезд гремит в тоннеле
☯☯☯
говоришь это вот это жизнь я её опознал
опоздал обознался устал извините наивен
в перевёрнутой серой стране за решёткой окна
быть собой тяжело быть другим извините в помине
говорил подбирал пустословил и глотку лудил
не надеялся но уповал что само всё решится
никогда за всю жизнь так бессвязно и слепо не жил
как в попытках всё в жизни связать разглядеть и разжиться
говоришь это просто подходит к концу эпизод
воздух гуще где крылья как титры к финалу нищают
что в грядущем гнетёт то в сегодняшнем сердце расход
на чужие грехи потому что свои не прощаю
на растущей луне перепой меня родина ма
я уже ничего не могу отдохни меня выжми
говоришь по рукам что не бьёшь а потом и сама
и уносишь меня но ни звона ни дали не вышло
только снег
Стихи о пользе филологии
а что теперь мне то, что есть язык
по мне так есть вопрос куда важнее
что он не есть
мне кажется так легче
понять откуда это всё пришло
допустим вот я умер мне держать
ответ перед отцом или допустим сыном
вот я вхожу билет беру сажусь
прочёл а там в начале было слово
и вот отец или допустим сын
мне говорят
допустим вот в начале было слово
скажи этимологию его
а я им трём допустим говорю
что это слово автореферентно
само себя из самого себя выводит
а больше значить нечего ему
а он мне говорят садитесь два
какая к чёрту автореферентность
я не о том вообще тебя спросили
опять сюда прислали атеиста
а пары надо было посещать
И это что, по-твоему, стихи?
☯☯☯
только собирались как бросали
жги меня дешёвую свечу
в пробке на подземной магистрали
в сторону куда я не хочу
в эту просто сложную погоду
мы лицо попроще припасём
ведь и правда ничего такого
ведь неправда что такое всё
время без обид и наказаний
с временем всё проще и прямей
но не пощадит и растерзает
если возжелает перемен
самовывоз не списался с карты
не в ресурсе в курсе в мусор вон
только если сам в руках у завтра
не с руки бояться за него
/пейзажик/
электровоз живородящий
пригнувшись ветру бьёт челом
есть связь но только для входящих
для выходящих ничего
по станции беду носили
вскипал под крышкой липкий сон
плывя в гудении осином
густым осиновым лицом
понтон утюжили камазы
на дальний цех дымок несло
спала земля наевшись грязи
её здесь всюду родный слой
верста полынная питала
горчинкой мелкий водоём
связь появлялась пропадала
ты выходила на неё
☯☯☯
трава к земле вода ко сну
но чуть затишье в дом проникнет
с границы сна приходит звук
он пахнет спелой земляникой
лови его ты им жива
им день и день друг с другом сшиты
его обманчивость фальшива
его серьёзность тяжела
вода решения немая
но слово брось идут круги
что с берегов её сбегает
ловя себя не береги
поймаешь будет дом качаться
водоворотом вихрем ритм
и это чувство ближе к счастью
чем всё что называют им
☯☯☯
лучшее произведение
маэстро Тре во Га
состоит из отзвуков
не фиксируемых нотной грамотой
оно играется на древних инструментах
из плавников кистеперых
и колец беспозвоночных
остальные произведения маэстро
слишком оглушительны
для этой нежной страны
фестивальные площади пустеют
когда неподвижные музыканты
берут их первые драконьи ноты
это нерентабельно
с точки зрения
угла зрения
круга зрения
истинное мастерство Тре во Га
в умении избегать направления звука
как и все абсолютное
оно не достигается
упражнением
☯☯☯
так в сумерках светла почти свята
искря звонками с улицы подбельского
питается рассветами среда
в которой мы потерям не ровесники
с моста ее подпитую столкни
чтоб не узнала как мы ей проспорили
какими нас запомнят эти дни
промокшие по локоть от истории
где мы совсем усвоили урок
и знаем лёгкий путь в припадках нищенства
а что потом всегда приходит гром
так всё уже отмыто и расчищено
свет по-кошачьи тянется в постель
погонным утром демоны прикормлены
цена не цепь ведь цели в простоте
но мы не мыслим в этих категориях
☯☯☯
на долгом поле сам себе сафари
на горло дня коленями весны
собрал вас всех чтоб взяли разорвали
а взяли подхватили понесли
вот так посередине бы и ладно
бывать себе не трогать падежа
стращать судьбу попытками доклада
но вдруг сорваться выбежать прижать
в прыжке от одиночества к зачину
я только эхо этого молчи
а мы не быть совсем бы разучились
когда б до эпилога не прочли
но если на бегу не провалиться
но если ветер углям не земля
лети моя по осени синица
я шею пополам но к журавлям
☯☯☯
не сомневайся всё решим
с тех пор как полностью потрачен
уже не превращаю в жизнь
что в череп ломится отдачей
такое время повелось
всю душу вынуло стащило
в музей вооружённых свойств
слов бронебойных черт защитных
под ветер ноги унесу
по брошенной узкоколейке
еще три дня проедем к лету
а там-то можно и вовсю
июнь в руинах миокарда
трамвайных лунных дней маяк
любить себя сказала карта
любить тебя работа я
☯☯☯
лунным камнем растворяться солью плавиться в корнях
где ты эти восемнадцать сочинила за меня
чтоб глазницы в оцинковке строгой тени тяжелей
в дефицитной санкционной запрещённой тишине
это страшно больше нечем поделиться пополам
мы с тобой такую вечность на молекулы дотла
чтобы к слову прививать их перетёртой бечевой
то что нас не убивает то и живо для чего
головой с размаху оземь высечь белого огня
что весной уходит в осень поминая имена
что идёт по перикарду голым белым без гроша
превращаясь в лунный камень и растаять не страшась
от предгрозья до капели через солнечный прищур
ты смеешься в лунном белом убегая по лучу
мглу частицей огибая и волной чеканя след
светом свет не испугаешь
не боится света свет
☯☯☯
Вспыхнет голос – и мёртвый сосед в перелётном огне,
как при жизни ходил, так и ходит, занозист, внепланов,
– Не пиши, – говорит, – никогда мемуар обо мне,
это будут китайские тени, георгий иванов,
миномётного ангела пенье во рту, слова для, –
– шарит комнату всю, – дай-ка память сожгу, где же спичка,
на четыре – сгорит голубая твоя неземля,
на шестой – полетит миноносица, смерть, невеличка,
это будет нерайская блажь, перелётный распил,
свет нептичий, тыдымский, ночной перченковой,
лучше то, как ходил, как мешал, как пластинки крутил,
как бесяво сидел до утра в общежитской столовой,
слышишь, брат, лучше сердце-монтаж, соловей речевой,
ближе джойсу и сну, ближе времени в продыхах дыма,
всё о нём и о нём, обо мне ничего, ничего, –
– повторяет, как бред, – нелюбим, нелюбим, нелюбима,
нелюбима моя, нелюбимо моё,
– повторяет, смеясь, беспилотно, и неба не видно, –
– я теперь высота, алфавит без ненужного «ё»,
без ненужного «б» так беспамятно и алфавитно,
испытатель опавшей беды, подожжённого «нет»,
речь огню-человеду, пчела с огневым неиначем, –
– обнимаю, из мёртвой руки возвращаю билет,
безбилетно в обнимку стоим, и хохочем, и плачем.
☯☯☯
Так страшно у себя в груди,
Как будто Мишу бьют
– Скорее, Кира, подойди,
Быстрей, тут Мишу бьют
– Борис, во глубине груди
Другой другому – брут
– Господь, поближе подойди,
Ты плохо ловишь тут
Поближе, говорю, померк,
Но не свети в меня
Возьми из памяти четверг
Невыходного дня
Пусть ярче на губах кровит
Некалендарный свет
Слова срастутся в алфавит
Без неродного «z»
– Мы райский ветер над травой
Ручной облакомер
Гранат над бедной головой
Ребёнка с ОКР
Где весь его подводный слух
И весь подземный газ
Поют мы белый свет потух
Мы утро белый свет потух
Не трогай нас
☯☯☯
как будто сотворён из ничего,
проснувшийся – и сотворён как все –
растёт отец из тела моего,
в цветочной железе,
весь шумный, из большого «если бы»,
домов неданных и небывших жён,
где поперёк дыхательной трубы
сам-свет преображён,
и только сын торжественно неправ –
животной бездной, погрузневшим «вот», –
в аду листвы, где пухнущий жираф
и птица-полиглот,
в седьмом аду, где зверь, вскричавший «пап»,
и нож, вонзённый в плоть, –
валяй, преображай меня, я трап,
комочек и Господь,
так самолётен, будто вся земля,
себя прервав, горящий перегной, –
когда же ты, рождённый ада для,
весь почерневший мной,
взяв за руку, оставлен, как черта,
не верь глазам моим, –
за удочкой бессовестного рта,
где свет преодолим.
☯☯☯
за цветочную бомбу твоей молодой головы
нецелованный лес мгу с подожжённой травой
за того даниила которого каннские львы
за его осиянный верлибр и за парня того
за вошедшего в свет виноградный и к смерти готов
и ещё даниил за тебя за несбывшийся мёд
идиот поднимает гранату цветочных мозгов
из черепа матери мнётся и пьёт
а огонь ошалевший цветёт
а огонь ошалевший цветёт
– извини, – говорит, – что такое вам время везу
что-то между господний укор и проросший орех
что-то между повешенный боже и свет на весу
за кукулина шульман за веру за всех
а огонь ошалевший цветёт
а огонь ошалевший цветёт
говорит расхераченный львов
и уже на закате верхушке своей надоев
под сурдинку срезаем и светел как стебель и прах
говорит
– я минующий время срезающий лев
что мне глина в Твоих огрубевших когтях
что мне тело в цветущем огне
даниил и несбывшийся мёд
а огонь ошалевший цветёт
запрокинуть глаза
там беззетный ещё алфавит
валтасарова ночь но какие-то буквы не те
и девятое мая на воре горит
в ошалевшей своей наготе
а огонь ошалевший цветёт
а огонь ошалевший цветёт
☯☯☯
говорит – и осколочный горловой
просит просит пароль говорю стекло
разбивай подготавливай к тьме такой
чтобы старое зренье заволокло
чтобы то что дрожало ещё вчера
камень я человече меня нема
отвечаешь гудит говорю пчела
тёмный мёд одного ума
тело пело любило гуляло тут
подпевало за словом следи кузьма
так устало что стало цветочный труд
бесконечная смерть сама
волновой и донецкий живут с нуля
так восходят как будто целуют в пах
и кита однобокого ждёт земля
на разломленных черепах
☯☯☯
вбрызнут гранатной кровью музыкой невоенной
зреньем ли вплавлен горем в непреходящий рай
галич на пересадке маленький бог над веной
вскрытым письмом лимонным
новый шерстят восьмай
оттепель отсырела потно мелькают лица
каждый уже словарен в кипе горящих тел
как тебе там сегодня братец пронзённый шприцем
ангел ночной психушки
райский водораздел
зверь ли дрожит посуден ходит ли брат медбратен
мозг сетевой надводен или взлетает над
входит ли в речь воденник зеленью виноградин
чёрным предгрозьем рая в несотворённый ад
там в несоветской толще голос поёт внепланов
точка аэродромна здравствуй мой добрый бро
словно в ночи смартфонной новый жужжит губанов
мелется речь мучная
просит вернись в ребро
телом зернист невзрывчат бережно беспилотно
– так не живи подробно, –
– просит нащёчный бог
так не живи предвзрывно всей темнотой над гродно
сердце-звезда игольчат
маленький – изнемог
целораспад струна ли тело твои сыны ли
влёт – одуван безбожий
тщится из темноты
музыкой медосмотра голые и взрывные
плавкое долетели
Господи
Это Ты
☯☯☯
что-нибудь лёгкое вроде распада
в руки возьми, только плакать не надо
солнечный мальчик, пройдёт к январю
чёрное небо в его сердцевине
взяв, поверти, как моленье о сыне
и не на нём говоришь говорю
слово падежный сошедший с ума
колокол-колокол музыка-тьма
эта зима повертела, накрыла
скрылись во тьме мариэтта, людмила –
сердцем земным не пускавшие ад
колокол-колокол время назад
речь на разломе дрожит лепестково
(ёлки, ревёт – в утешенье такого
что бы сказать, отводящее слово? –
слышишь, поехали по небу, брат)
плёнка в зазоре расходится с гущей
голос не есть к овоенью зовущий
колокол тьмущий не есть иван-чай
в праздничной речи ночных живодёрен
свет сотворим осязаем проворен
слышишь молчи отвечай
ПЕСНИ ОТЦОВСТВА (цикл)
I.
это скошенный свет из курносых потёмок
подавивший нашествие трав
это в пыточном небе качаясь котёнок
говорит я теперь волкодав
это бог каминг-аута спел на помине
всё срывая что можно сорвать
и на чёрных костях в ухмыльнувшемся сыне
проступает подлёдная мать
где же ты перворечь изумлённые сани
суицидник на чёрной луне
этот голос радиста и в небо свисая
подоконное врёт обо мне
и влюблённый партком то грозясь по-иовьи
то чистилищным стуком весла
подплывает ко мне на подсолнечной крови
и сжигает жильца не со зла
II.
В темноте и в отцовства аду,
всеми створками длящемся для
обещавших – люблю, докопаюсь, приду –
говорит голубая земля:
– Разреши мне, отец, я побуду не-я,
нерождённых на самом краю,
оглядевшая сад молодого зверья,
первобукву изъявший свою.
Вот он всходит – ожившего босха разгул,
строем, строем, сияние скреп,
четырёх перегнал и троих перегнул,
дай развидеть, я медленный хлеб,
зерновых промедлений небывшая весть,
абортария буквы не те, –
накажи, но вели им проснуться не здесь,
в погрузневшем моём животе.
III.
Но уже подступают, и стелется дым,
историчка, нешкольный иврит,
нететрадная тьма с перегаром густым,
и она говорит:
– Так спасибо тебе, зачеркнувший меня,
я вино, я повинна стою
за вот это сгущённое зренье огня,
за убившего всеми семью,
что стоял не во зле, как зияющий пах,
только позже пророс и воскрес, –
за вскормившую эти акбар и аллах –
пропустите уродку на рейс.
IV.
хоть иконе, видавшей убийцу, уже всё равно
на огонь, что волнуется пять, и четыре, и три, –
расскажи, как в артерии входит обиды вино,
пожирая пловца изнутри,
и как то, что норд-остом грозит проявиться потом,
что собратья простят лишь прибитым за оба яйца, –
превращается в кашу, голодным грозит животом,
роженицу приняв за отца,
а отец, так любовно взрастивший зверьё,
сам блуждает в ожившем аду микросхем,
в этой вспухнувшей тьме, дай вкусить перегара её
и спокойно заткнуться, как всем
Час ночи спать час ложился. Бесконечно ненасытный комар появился.
Моя жизнь где-то между: ятаган урук-хая и встреча с двумя: подруги вебкамщицы.
Какие, блять, две подруги вебкамщицы?
Часа три, четыре, четыреста я слышу гул блять, бесконечный мотор легиона или один он, но в край отбитый комар. Он ходит вокруг, он шарится всюду или же просто он круговой. Круг комара как вот эта хуйня у панамки Кунг Лао, как ульт гудка паровоза, как просто хуйня.
Но а если не я, кто здесь будет сражаться?
Тысячи лет поддаюсь, просто чтобы однажды бесконечный комар меня выбил из сил. Я отвлекаюсь, Ссаный бог Ра, отвлекаюсь, может даже блять завтра Солнце взойдёт
И Солнце взойдёт
Я герой из телика, что-то типа Том Круза или кто там сейчас самый крутой. Вот эта битва в полуяме из матрицы, механизм и живое в едином сплетении, полёт шмеля: где-то поле между Москвой и Берлином, гигантский муравей снова шатает деревья, бог Ясень мечтает увидеть секвойю, король, сидящий на тромбе и кот
Спиздил в пять утра мои сигареты
. . .
Абсолютно не знаю куда я иду
Но всегда знаю как мне идти
Мысленный паблик с волками в голове, эта дура сосёт все мои силы, убийца состава поездов и списка кораблей, полумент, сверхомоновец, королевский из тотал вара гвардеец, двадцать пьяных азиаток с Бильбао и близняшки без глаза.
Мне друг говорил, когда ты выиграл у деда, ты играешь с ним в последний раз
Я боялся последнего раза…
ребёнком в ночном парке, кот играет с бычком, кот играет бычком, кот играет.
Я боялся последнего раза, в России не должно быть хорошо, в России должно быть
Интересно
Десять тысяч лет в спячке был, ждал, пока стабильно в России не появится блять кратер от тиктока
Здесь и пройдёт наша последняя битва, он совершает классический православный грузинский намаз, [заготовка, услышал в баре на Крюково] думаю ладно, если задуматься, Христос – он вообще очень разный
Но должен же быть, сука, какой-то прожиточный минимум совести - в городе, где никто не знает, кто такой Ашшурбанапал, заходит в бар тип с молочным бидоном "дайте мне рокс, я пить бросаю, ток поесть вот зашёл." Я думаю, блять, каких людей мы теряем, разбежалось пол войска, знамёна созвали [проёбаны], пол войска ширяется и анекдоты про баб
Я
Я должен выйти из дома, перед детьми долг выйти из дома, мне говорят где ты был, а я должен был выйти из дома
Извините вообще блять все, я должен выйти, меня ждут люди на улице, я знаю, я видел, ждут люди на улице
Человек – кожа, а крокодил крокодилу чешуей становится
И я стану, плечи расправить – уверенность в норме, дойти на ногах и стану, я, встану
Или один, но не будет/было такого, я слышал: ждут люди на улице
И если я здесь – и за мной кто-то встанет, и будем мы, как шайка ахейцев, ждать вас на улице.
Между нефтью и нефтью блять комариное войско, или как анимешная вот эта хуйня со сбором в механоблятьзавра
Мой отец – Сталазар Саблезуб, вышел в поле и кекал, шёл, дал имя всем рекам, рядом с ним герой других стран: Ирландий Кеков.
И скоро все соберутся: Бродяга с предплечий, Жук-Суджук, без трёх минут царь междуречья, мой старый друг, Банан Андреич, увидевший свет Вкыл Викторович, банда столяров и шайка древорубов, пляжный чел, да и хотя бы один Альпийский стрелок, кодла ящеров и клан драконорождённых с харизмой на максимум, да хоть кто-нибудь выйдет
Мой отец от рождения Салазар Зауропод, а я немного другой, мне двадцать три года, я жил по правилам в своей голове.
Правило первое: каждый имеет
Моральное право.
Писать лучше, чем я
Правило второе: в пизду помидоры.
Теперь есть и третье: победить эту тварь.
00.00.00
Когда просохнет Енисей, задушится Москва, Байкал заглянет сам в себя и сдохнет, сгорит Сибирь, Урал перевернётся нахуй, но рядом уже нет родимого плеча
[Не внемлют богу пустыри, взойдёт звезда в молчании, я буду рядом]
Приходит Тишина..
<...>
В конце звука родится свобода
И совсем не находится слов.
Я просто стоял и смотрел, я боялся последнего раза
Я стоял и смотрел
Я наконец-то засну.
☯☯☯
Невозвратная речь, потерявшая всякую силу,
Возникает обрывками через подтаявший снег
Прошлогодней травой. Что-то иноязычное было
От рождения в ней, а теперь надевай оберег:
Разобрать эти записи (между скелетов кошачьих,
Гнутых крышек бутылок) на чёрных бумажных листах
Не помогут ни мантры, ни март. Вырос, кажется, мальчик
И наткнулся лопатой на собственный страх:
Виноградные косточки и кожура мандаринов
Тоже въелись в морозную почву, где спрятан тайник.
Мне приснилось, что тело моё той весной завалило,
И поднялся из мокрого снега двойник.
Он встречался с друзьями, шутил о погоде,
Провожал взглядом девушек, в точности так же, как я.
Только не было слов, только кукла без крови и плоти,
И во рту шевелилась земля.
☯☯☯
O triste, triste était mon âme
À cause, à cause d’une femme (c) P. Verlaine
Луна взошла совсем как у Вэрлена (с) Г. Иванов
Если б мы проснулись на Монмартре,
Я бы согласился жить до зимних
Вечеров на крыше. Прыгать в марте
Сквозь круги луны на волнах синих.
Ты на чердаке бы грустно пела,
Рисовала пальмы на салфетках.
В комнате играл не Джо, а Йела*.
Шахматы бы заскучали в клетках.
Ре-д-шоссе не метено недели,
Пахнет едким «маслом керосинным».
Русские грачи не прилетели –
Пальмы перекрашены в осины.
Вспомнить то, чего пока не видел:
Забастовки в саде Люксембургском;
Оберег найти в кофейном сите,
Чтобы обронить над водоспуском.
Волны Сены унесли Елену.
Где б я ни проснулся, рвутся фибры
Точной рифмы, и луна Верлена
Удивлённо смотрится в верлибры.
* Yelawolf
Необычайно грустной была моя душа
Из-за женщины, конечно, из-за женщины (с) Г. Аполлинер
☯☯☯
Тихо болеют
Громко разговаривают
(Когда не спят)
Пять человек в палате
Начало лета
Открыты окна
Капли беззвучно бегут по трубке
Полудрёма и холод в руки
После поставленной капельницы
Заговорил Александр Иванович Иванов
Это была тягучая сталь
Никакой наган не пробьёт
Пулю он испытывал как осколок
Она может попасть и на излёте
Сейчас даже 9,18 патрон не берёт современные шлемы
Так, небольшая царапина
Насквозь никак
Зато малокалиберная пуля может пробить каску
С острым наконечником пуля
Поляков Владимир Ильич
Пересел на кресло-каталку
Гитлер был австрияк
А там много евреев пряталось
Адольф Алоизович Шипербрюгер
У дяди фамилию взял
Боялся, что будут показывать в клетке
На Красной площади
В 1918 году получил контузию
Говоришь, пуля 9,18?
Такой пулей 5,6
Если в белку попасть,
То ей уже всё
Тир для обучения по стрельбе
В любом подмосковном лесу
Виктор Николаевич Тихомиров молча лежит
Валентин Архипович Храпунов обьясняет
Не курю и не пью
Никогда в своей жизни не пил
Гадость это, алкоголиков не выношу
Никаких продуктов кроме отечественных
Дим, у меня три пакетика сахарку
Хочешь
А то у тебя чай пустой
Желудок пустой
Я человек простой
Пить хочешь
Встать не можешь
Подходи, бери сахарок
Виктор Николаевич лечится тишиной и покоем
А где их тут взять
Вот и лежит в наушниках круглые сутки
Ставит мировые рекорды
Десять дней дренаж, зонд и катетер на шее
«Когда уже разрешат есть»
Скажет и повернётся на бок
Дмитрий Дмитриевич Усенок,
Когда тишина наступает в палате,
Читает французский роман,
Открыв его с середины
О страданиях бедной Джульетты
Полюбившей знатного сеньора
«Закройте пожалуйста форточку, Виктор Николаевич»
Скажет и повернётся на бок
Заходит Серафима Владимировна Корзухина
Ставить градусники и проверять капельницы
Она разговоров не любит,
И все замолкают
Соблюдают больничную иерархию
Но Виктор Николаевич не выдерживает:
Может, хоть вы расскажите, сколько нам тут лежать
Сколько дней
Сколько градусов у меня
Сколько средняя температура
По больнице
Сколько белок
Гитлер перестрелял в подмосковном лесу
Сколько сколько сколько
☯☯☯
Что-то теплится. Тем лицам
Незаметными остаться
Или в разговоры влиться
Полусмертью, полутанцем.
Полуслово, полутело
Продышалось и засохло.
После взрыва помутнело
Что-то в воздухе. Осколок
Проморгаешь и сорвёшь
Трын-траву на месте капищ.
Капли красные сотрёшь
И на камешке оставишь.
☯☯☯
Можешь не гореть – не твори.
Ближайшая лампочка достаточно освещает.
Можешь не писать – не спеши.
На полке так много книг,
Но я не помню ни одного имени
Знаменитого современного автора
Полезного для прочтения.
Их как шерсти на теле бездомной собаки,
Которую донимают вши.
Не можешь любить – не люби.
Лениво растекайся по плоскости бытия.
Не хватало тебе окончательного
Опустошения.
Сохни медленно на поверхности,
Стань прозрачной коркой сырой земли.
Можешь не жить – не пережёвывай.
Плыви вдоль обочин корабликом негасимым,
По пути залетай на редкие огоньки.
Без ненужной цели цеди словечки.
Можешь не умирать – волочись,
Продлевай неопрятный танец элементарных частиц.
Запоминай безличный шаблон мелькающих лиц.
Это совсем не инструкция,
Это абстракция.
Может быть, даже обструкция.
Фикция фиксиков текста.
Торжество означаемых.
Попытка борьбы с молчанием.
☯☯☯
Мы скрывались с Радмилой на rue* Габриэля Марселя.
L’homme révolte** и Сизиф
Оставались ориентирами
Для нас, живущих по планам,
Придуманным вместе
– Как вся наша новая жизнь –
В предвечерней постели.
Для нас, потерянных
И притаившихся
Между барокко и реновированными ампирами.
Этот город ещё имитировал сам себя:
Европейская кухня,
Азиатское рядовое бесправие.
Гаманы гуляли на улице Риволи
С подпитыми кралями
– С подбитыми крыльями
Бронетехника, лязгая и сипя
Пробивала мой панцирь на расстоянии, –
Пока Радмила увлечённо жевала,
Не отличая сулугуни от саперави.
А что вы хотели?
Детей югославской войны не учили
Хорошему вкусу
Ни в кухне, ни в литературе.
Семья поначалу хотела отправить девочку в Чили,
Видимо, чтобы военные страсти
Заменить, так сказать, благоприятной почвой для личного роста.
Но Византийский дух оказался
Ближе Радмиле.
Закончив медвуз, она пошла медсестрой и ещё
На полставки в регистратуре.
После восьми мы ехали ко мне на окраину,
Где только латинские буквы на стёклах
Напоминали о внешней экспансии.
Радмила меня целовала. Радмилу ma chambre*** не парила.
Я призывал её перестать закатывать камень
В государственной
Чахлой больнице.
А работу найти не проблема,
Даже в Бастилии были вакансии.
Мы стали здесь чужестранцами –
Город, в котором всё меньше гуляют,
Всё чаще оглядываются.
Железный чайник под небом свистит
Дрожит и падает с невыносимым визгом –
Я читал о возможности выбора
И вёл занятия,
Пока Радмила после больничной смены
На кухне спит.
Специалистка по перевязке
Уколам и клизмам.
У её отца, знаменитого сербского военкора,
Почему-то ростовский говор.
Эмир, объяснила Радмила, его давний киношный кумир,
Вот откуда такое имя.
Металлические гусеницы осени
Уже заезжали в город
По опустевшей улице Розанова,
И туман расползался послушно.
Остались лишь
Два человека дымки
Учитель и медсестра
Скрипучие старые капли
И сталинский грозный ампир
* rue [рю] улица (фр)
** L’homme révolte [л’ом револьт] бунтующий человек (фр)
*** ma chambre [ма шамбр] моя комната (фр)
☯☯☯
«Да, хорошо, хотя хуёво», –
Сказал мой друг, профессор Пронин –
«Писать кириллицей хвалёной,
Но так, чтобы никто не понял».
Налипли косточки черешни
На ультратонкую подошву.
Передвигались ровно внешне,
Но скользкий хруст расслышать можно.
Свистело что-то над загривком
Упало что-то за оградой.
Оттуда шлют и шлют открытки,
А распечатывать не надо.
☯☯☯
Каждый из нас
Однажды проснётся
И чётко поймёт
Что вот оно и закончилось
Теперь
Оно всё
Тогда
Каждый из нас
Вероятно примет
Отведённое ему место
С благодарностью
А может быть даже
Как неизбежность
Как отсыревший зонт
Найденный на осеннем кладбище
Как уцелевший цветок
На выжженном поле
После большого взрыва
Каждый из нас
На износ
А возможно
Практически каждый из нас
Будет мучительно долго оглядываться
Не думая ни о чём
И устало рассматривать
Кирпичи
Извёстку
Старые пыльные вещи
Которые больше ему
Не понадобятся

CRUSADORS
Закутанные в белых простынях
Ливонию минуют крестоносцы,
скрипя гнилым железом на морозце
на жестяных обугленных конях,
даруя веру посреди зимы
чухонским неотопленным лачугам,
как корабли идущие из тьмы,
встающие у круга полукругом,
как льдины, повернувшись на ребро,
проходят по воде ломая ивы,
и ветер затяжной несет добро
имперские храня императивы,
которым в понедельник тыща лет
если всего не выносить за скобки,
которые прошли, которых нет,
что подтверждают свежие раскопки
раскроенных боями площадей,
и вывернутых напоказ курганов,
дрожащие обрывками сетей,
и содержимым бабкиных чуланов,
в полубредовых играх ролевых,
перегоревших в мареве печали,
где болтунам подарен лик святых,
чтобы они навеки замолчали.
ДОНСКОЙ
Я сам себя боюсь, когда плечом
расталкивая теток нелюдимых
в московской толчее иду к тебе,
как за последним солнечным лучом,
коснувшимся вещей необратимых,
навеки растворившихся в толпе.
Кармической ошибки холодок
подчас воспринимается как глупость,
и хочется оставить тебя в ней,
где чередуя пол и потолок,
глаза, переходящие на грубость,
от нелюбви становятся черней.
Я приводил на кладбище подруг,
и вел их как всегда к одной могиле,
чтобы напомнить имя в тишине,
в котором мне был важен только звук,
а не слова, которые любили,
и что-либо узнали обо мне.
Я как мертвец в те дни предпочитал
цветам живым пластмассовые розы,
и равнодушен к пламени свечи,
я верить одиноким перестал
и выбирал молитвенные позы,
борясь за место в медленной ночи.
Теней, стоящих за моей спиной
в бессмысленном обряде посвященья
немного больше, чем бы я хотел.
И мне не нужно музыки иной,
дарующей надежду на прощенье
и радость душ, оторванных от тел.
РАССВЕТНЫЕ СТРАХИ
Когда тянулся тщетно взять взаймы
любви и силы у того, кто любит,
чтоб на дорогу выбраться из тьмы,
уверенный, что утро не наступит,
и раскрывая окна впопыхах
в пролетных поездах и сирых дачах,
я отпускал на волю древний страх,
потерянный в дешевых неудачах,
бросал монетки в черный ствол ружья,
будто в земной бессмысленный колодец,
не различая собственного я
от записных уродов и уродиц.
Но утро наступало как всегда,
и возвращало на места предметы.
И холодела в озере вода.
И на земле как сон кончалось лето.
ОКНА СЕНТЯБРЯ
Как быстро здесь становится темно.
Вода черна как древняя обида.
В лесу закрыты двери, но окно
на верхнем этаже еще открыто.
И мы с тобою, головы задрав,
стоим в ночных рубахах на пороге.
К нам тянется дыханье диких трав
в безумном марсианском диалоге.
И облака в растворе серебра
идут сухими льдинами по полю.
И где-то в небе окна сентября
беззвучно отпускают птиц на волю.
АНДРЕЮ И АРСЕНИЮ
Холод над городом,
белый туман на равнине,
на погосте гуляющие
синие огоньки.
И легенда о блудном отце
и премудром сыне,
распутывает языки.
Что нам, смертным,
оторванным от созвездий,
вспоминающим в устье реки
про ее исток.
Мы с тобою — ножи
в рукоятку ушедших лезвий,
не направленных ни на запад,
ни на восток.
Спи, ребенок.
Во сне проступает правда.
Больше нет ничего.
Остается огонь и брод.
Все мы спим. И не знаем,
что что будет завтра,
но мы знаем больше,
чем царь и его народ.
КИТАЙСКОЕ СЕРДЦЕ
Забери мое сердце,
а лучше его продай
на обед иноверцу
в огромный как ночь Китай.
Пусть стучит мое сердце
на башне степных часов.
И дрожит словно дверца,
закрытая на засов.
БЕЛЫЙ КИТ
Вычеркнут день биографии,
странный как белый кит.
Ни реплики, ни фотографии.
Забудь, чтоб он стал забыт.
В морях ни порта, ни станции.
Набрось на колени плед.
И сохраняй дистанцию
десять-пятнадцать лет.
ОБМАННЫЕ ЗВЕЗДЫ
Вычурной пирамидкою сложено домино.
Кто заскрипит калиткою? Кто постучит в окно?
Что эта ночь подарит мне, что заберет себе?
Интеллигентной барыне нехорошо в избе.
Выйдешь в пижаме розовой на перекрест дорог.
В лиственной тьме березовый хлещет из вены сок.
В лужах дерьма телячьего скованная грехом,
старая мать-и-мачеха шепчется с лопухом.
И рассыпаясь искрами в дикий холодный пруд,
звезды глядят так искренне, будто немного врут.
ЖЕРТВА
Ночь свяжет руки и сожмет глаза,
сводя с ума от межпланетной скуки.
И взрослые покажет чудеса
по всем законам пыточной науки.
Беспомощность тебе недолго льстит,
когда в досаде набирая силу,
она к рассвету обретает вид,
способный хоть кого свести в могилу.
И взгляд ее приказывает ждать
в окне открытом отдаленный парус,
приподнимая божью благодать
движением одним на новый ярус.
Ты с ней сцепился узами родства.
И в драматизме сладости постельной
простые, солдафонские слова
звучат отныне песней колыбельной.
Последний клад разграблен и разрыт,
и вместе с ним исчез источник страха.
В ней жадность просыпается как стыд,
и лоно разверзается как плаха.
И я молю, чтоб ты меня спасла,
от святочной любви пойдя налево,
упав в объятья старого козла,
как чокнутая злая королева.
☯☯☯
Ты не скажешь доброго обо мне.
Почему говорю я?
В темноте в пустоте в тишине
в стопках свернутого белья.
Почему этих белых садов цветы,
этих белых садов цветы
не помяли ногами ни я, ни ты
не помяли ни я, ни ты.
Почему, если ветер мне башню снес,
ты как пленница взаперти.
Почему на коленях соленый пес
засыпает в моей горсти.
РАЗВОДКА
Каша пшенная пересолена.
Не заправлена днем кровать.
Ты забанена! Ты уволена!
Не отсвечивай, твою мать!
Ходишь с мордою маслокрадовой.
Хвост прически торчит трубой.
Уходи! Отплывай! Уматывай!
Наслаждайся сама собой!
Поищи под себя убежище.
Не забудь про в раю шалаш.
Ты уебище, ты посмешище.
Падла, вышедшая в тираж.
Одинаковы бабы к старости:
хоть ты прачка, хоть драматург.
Не вернет тебе прежней сладости
ни психолог, и ни хирург.
Рассчитайся со мной минетами.
Нет валюты у нас другой.
И не пудри мне мозг рассветами
и туманами над рекой.
Не была ты в любви искусница.
Слишком мало читала книг.
Из хабалки из под Урюпинска
не получится Лили Брик.
Забирай свои тряпки ссаные.
И по набережной — трусцой.
Я кормил тебя круассанами.
Так питайся теперь мацой.
ПРЕЗРЕНИЕ
“Вычурный тест – признак графомании”
— Пособие для начинающего редактора
Имеется определенный смысл в прозрачных утренних переходах скомканных теней опавшей, еще нет, и вот опавшей уже листвы – рваные контуры, глубокие апоплексические припадки цветовых слоев, когда за невозмутимой зеленью образуются беспокойная рыжина и следом плавит измочаленный лист рыхлая чернота как слепое лицо после безжалостного пожара, лицо бездарной актриски, галопом скачущей в ософиченной, фосфорной, румяной темноте ради безнадежной радости материального достатка, и сумбурные движения кленовых и березовых, - бравурная имитация жизни, - под напором мокрого ветра, когда полоумные ангелы-школьники в экстазе безнаказанного озорства растворили замки в небесном амбаре, и ветер-здоровяк вырвался, и давай тормошить смурых жителей нижнего мира, щекотать пятки густым липам, лизать шеи страусам, хрустеть битым стеклом на заброшенных стройках, с дьявольской нежностью играть с пустыми пакетами, доводить флегматичные листья до состояния крайней ажитации, так что и в шорохе слышится: невтерпеж, – название неприятного предприятия, где они отныне служат, пока не становятся прелью и перлом баснословной осенней россказни, которая никак не затихнет в прозрачной мгле узких улиц наших, распяленных, подобно мокрицам на столе томного энтомолога, в искаженных пространствах простывшего города, доступного на старых обстоятельных картах, в четких умах расплывчатых гимназистов, и незаметного с любой точки обозрения изнутри самого города, с косой крыши разваленной халупы на окраине, с бесшабашной башни на центральной площади, откуда, если только загодя получить миниатюрный бинокль в цветочной будке у сонной дамы с выпуклыми очами яванского лори, видна и далекая дымка Серых гор, и плавная выемка голубого водопада, похожего на сверкающий внутренний слепок горла пьяной великанши, и детские кубики трехэтажных домов; и вот наша с тобой бессмысленная тоска – тоска по взморью, по взмыванию на суетливых волнах, слепленных из сияния и зияния, когда нельзя различить высь и глубь, и гулкую мглу, и сгущенный танец марионеточных рассветных лучей на водной глади и кровеносных звезд, уже окрашенных и гаснущих, - так возникают чудесные параллели с мифическими историями из книг, покрытых патиной и паутиной, еще не прочитанных, но уже разверстых поверхностью реки, и простодушного читателя с головой захватят торопливые истории про говорящих птиц, и если дальше поднять взор, покрутить окуляр и навести резкость над плавной Невой нашего выморочного вымысла, видна под самой крышей шлакоблочного дома квартирка удивительного человека, существование которого всецело оправдывает нашу эпоху нелюбопытных, инертных интернет-персон.
“Звали его Леонид Морозов” – такими словами начинаются биографии, но автобиографию открывает загадочный тезис “Имеется определенный смысл”, за ним следуют ретивые извивы и бесподобные потеки нашего мертвенького литературного языка, так что и понять нельзя, только ахать и улыбаться, вхолостую пролистывая страницы, испещренные старательным бредом – так с улыбочкой расстаются граждане с дензнаками, не устояв перед чарами скуластого, ласкового оккультиста, который зрит насквозь их пошарканные бумажники, заплеванные проспекты жизни, гнетущие перспективы судеб, и понимая многое, довольствуется малым, как птицы – червяками в теневых нишах расхристанного двора, - так и мы расстаемся с надеждами что-либо понять, лишь фиксируем определенные и непреодолимые повороты событий, удерживаем в памяти статичные позы занятных эпизодов раннего детства – эмбрионов будущих треволнений и мытарств, - затем память нас оставляет, и снова бродим бесцельно, бессмысленно по прогалинам и проталинам одного бесконечного парка, где почти все тропки сходятся у памятника баснословному поэту, - черный бронзовый всадник подернут корками грязноватого снега, лишь книга в высоко вскинутой руке ловит холодный отсвет матовой синевы, и через проворный курсив таинственной баллады скользят жирные кляксы ледяной воды, и никому не прочитать безупречное произведение, табличка непоправимо повреждена отъявленными хулиганами, дремучими и лютыми, в ходе распития, как говорится, в процессе рокового эксцесса, в результате сильного помутнения, то ли дело полсотни лет назад, когда с десяток плечистых молодчиков приволокли на угрюмых лошадках почетный памятник, – еще не просохла краска, не рассеялся тяжелый запах, а уже собрался заинтересованный люд, и дамы с кружевными зонтиками, летние, почти прозрачные, и кавалеры с баками, уютные, густоголосые, и пожилой сумасшедший с потрепанным томиком стихов отлитого в бронзе всадника, - стихи он знал наизусть, потому что сам их написал в прошлом веке, мучась назойливым вдохновением, и окидывая скульптуру придирчивым взглядом, находил невидимые обывателю достоинства и огрехи, - и нарядный оркестр наигрывал народные мелодии, и с крикливыми интонациями бывалого зазывалы читал речь градоначальник, особливо напирая на нерушимые устои, гражданский поэтический подвиг и пламенные сердца, где рождаются великие многоликие строки, и были качели, мороженое, бардак и свистопляска, к люду важному примешивался второстепенный, архаровцы и неудачники, и пока фонари не погасли, крутились в куртуазных полонезах, кутили, и жутко сквозь серебристый огонь щербатой луны скалился знаменитый всадник, с тех пор повелось обыкновение выгуливать собачек и нежных дам, признаваться в так называемой любви, пафосно стреляться и распевать блатные песни перед бронзовым ликом гениального поэта.
В этом народном месте будущий отец нашего персонажа знакомится с девицей Тасей, которой суждено стать матерью Леонида, пройдя через привычные нам с вами первичные перипетии, околесицу окольных разговоров, объяснения и объятия, беспрекословные приказы прикосновений, когда невозможно удержать туфлю, и нога торчит вверх, дерзко показывая неподвижному всаднику на возможность иной консистенции бытия, в остальном, конечно, слякотного, суматошного и хрупкого, да ему хоть бы хны, он увлечен проблемами иного масштаба, у него на уме алая пыльца рассветных звезд и память птеродактилей, и пока под боком развертываются события незначительные, сочиняет металлическую поэму, лишенную недостатков стихов из букв и мыслей, и не раз отец, в ту пору безусый студентик юридического факультета, измученный зубрежкой законодательных актов и поносом вследствие дурной пищи в постылом имении скаредной тетки, проклинал блистательного словоблуда за его непомерно длинные строки, которые приходилось учить, подолгу жуя постные латинизмы и с постной же рожей стоять перед веселыми однокашниками, декламируя нравоучительные строфы – окстись, дескать, рвать сухую розу с трепещущего голого куста, бо pungunt sicut viperae.
И вот судьба разыграла тошную шутку, всю глубину ее повеса понял сильно позже, когда себя ощутил бронзовым всадником, застывшем в мыле и мелу бессмысленной семейной жизни, и сколько ни понукал ленивое животное надежды и наслаждения, оно оставалось на месте, мастерски имитируя стремительный побег в обетованные края, куда из Морозовых удалось попасть лишь Леониду. Но до его рождения остаются долгие годы безмятежной свободы, яростно чокаются нищие в теплом парке, с переломанной лапой косится на свое отражение в серебристой луже щуплый грач – ставленник и наследник великого поэта, по утрам гортанно кричащий плохие стихи в зыбкой и зябкой роще (чаще – в чаще), ходит и сумасшедший с одной и той же торбой, воруя у птиц нерожденных детей и сооружая омлеты, покамест устанавливается прочная связь двух безмерно любящих сердец, персонажей сентиментального эпоса, откуда возникло все остальное, чему было суждено проявиться, вопреки рубиновому валёру истории или благодаря, только дальнейшие страницы этой порядком истерзанной книжки освещают и некоторым образом оснащают узоры и завихрения патриархального быта, откуда из тайных складок и выполз в каком-то году уже без меры потрепанной, но все-таки удивительно новой России, наш – все-таки наш! – Леонид, и как же представить его, каким орудием вырезать на податливой глине воображения, чтобы не упустить архиполезные детали, сверкающие шестеренки баснословно счастливой машины детства, и тут показания путаются – кто-то считает, что подобные метафоры категорически неприменимы к данному промежутку жизни, иной возражает: конкретно к оному – применимы; начинается раздрай, разнобой, чересполосица, судья напрасно стучит молоточком, глухой деревянный стук тонет во взбаламученном море яростных голосов – да ведь дерево не тонет; дерево не тонет, а стук тонет, возражают провинившиеся и дерзко смотрят на нас из-за железных прутьев; я киваю тебе, ты устрашающе скалишься, и вновь царит спокойствие, царит и благоразумие, ангелы и архангелы верхнего мира нежно флеют на млейтах, и неуемного Леонида качают тетушки – о, было полсотни бестолковых, и он причудливо прорастал через бесконтрольные слои распашонок, бутылочек и прочего материнского экстаза, оставляя за бортом пасторального бытия, - а после переезда уже бытия постороннего, построенного по иным, калечащим, лекалам, - медленные тени, сумрак неназываемого, рокот загробного.
К слову о загробном, дама с яванскими очами, продавшая нам бинокль, давно спит в будке, уткнувшись лбом в желто-малиновую толщу популярной газетки с ликующей статьей о провале лунной миссии, о стигме, и на первой полосе во весь белозубый рот улыбается Леонид, про него сполна говорится в видавшей виды книжонке на столике судьи.
Увы, личность Морозова представлена там с точки зрения положительной, подчеркивает прокурор, и его роль в лунном проекте рисуется идеалистически, дескать, гоголем ворвался в захиревшую компанию отсталых прохиндеев-бюрократов, которые утратили веру в собственные разработки и лишились человекоподобия, согбенными угрюмыми буками они проводят положенные часы за вычислительными машинами, смирились с тем, что ракета не взлетит, ибо инженеры дали маху, несметные громады чертежей и химеры схем положено изучать с толстыми лупами, чтобы локализовать аберрации, но закопченные стекла наших увеличительных приборов не пропускают свет, и мысли научных работников были удивительно однообразны, будто единое скорбное существо, настойчиво грезили они об отпусках и повышенных окладах, о легкой смерти в герметичной капсуле, о соленом воздухе Македонского моря, пока не ворвался уличным ветерком Леонид, и вот тогда, гласят они, компания стала преуспевать и даже кое-что реализовала из утративших доверие концептов, но как это происходило, как ворвался ветрогон и бестактный босяк, чьи ступни еще помнили теплую лужайку во дворе теткиного поместья, разграбленного и взорванного в годины страданий вместе с предками, верно, застывшими в чопорном поцелуе среди узкого коридора, распахнутого анфиладами комнат – или это перебор уже, перебирает лапками сумрачное мохнатое существо – паук, паук, стремясь в щель между досками, оно ошалело от грохота, оно ничтожно, и чудесным образом выживет, чтобы плести невидимые сети в садовых тенях иных очаровательных усадьб, у судьбы за пазухой, где до поры до времени находился Леонид.
Надежды он сызмальства подавал недюжинные, был послушен и добр, и диким образам дворовой возни предпочитал фигуры телевизионные, и так, уютно забравшись с ногами на диван, перед голубым экраном просидел двадцать пять мучительно монотонных лет, пока не был тяжелым сапогом ректора выпнут из университета за неправильное поведение, что бы сие ни значило. Разные, подчас прихотливые версии населяют эти веселые агиографические страницы, и активнее прочих в ходу вариант с криминальным душком, дескать, в подворотне, залепив рот медицинской маской, как тайный князь, продавал запрещенные вещества, и пусть сам Леонид отрицает свое участие в подобного рода сделках, нельзя не поразиться тому, с каким проворством распространяются слухи.
Подвизаясь на мириадах мелких суетливых работенок, он приобрел практическую сметку и общие качества мастера в абсолютно любой области, мог запросто управлять безалаберным коллективом или читать техническую документацию, хвастливо пишет упомянутый автор, и мы подхватываем, хотя велено растерзать, не в силах сопротивляться бесконечному обаянию риторических оборотов – так ли на диво хорош? – лепим высочайшую оценку; на лицах присяжных глубокая задумчивость, невдомек им, отчего могла произойти кромешная неурядица, взять компанию с куцым бюджетом, фактически мертвую, да благодаря вялой поддержке сенильных акционеров с бездонными кошельками, покамест на плаву, и вот врывается молодой бездельник и непостижимым способом трансформирует общую апатию в патологическую активность, коллеги в ажитации, дрожат, стряхивают пыль с вековых прожектов, подтягиваются инвесторы, сперва неохотно и недоверчиво, зато с бешеным энтузиазмом впоследствии, образуется гонка вкладчиков – и некогда разбираться, чем вызван эффективный рост бизнеса, какие ошеломительные шаманические приемы использовал Леонид – это подробно рассмотрено в пятой главе, куда мы, увы, не попадем, потому что вот-вот стукнет ненавистный молоточек, судья скороговоркой произнесет вполне предсказуемый приговор, и мы потащимся в стальные катакомбы, однако должно с ним что-то произойти в детстве, с вашим бесподобным Леонидом, отчего он воспылал желанием удрать на Луну, не может Л. быть носителем бесхитростных клише советских передовиц, транслирующих приторные мечты о покорении космических глубин: розовощекие пионеры, дружелюбные зеленые человечки, – нестандартному завихрению ума предшествовала психологическая травма, и уже в предвкушении свежего кейса комнатные психологи запаслись блокнотами, едва завечереет, затанцует колючий летний дождик на гнилых досках старого крыльца, господа разойдутся не солоно хлебавши, потому что (о чем указано в главах 2 – 4 - 8) жизнь нашего подзащитного берегла его от излишних треволнений, чадо культивировали как редкое растение, и космические притязания результат самостоятельных раздумий о безначальной природе действительности, писал Морозов под непроницаемо-серьезной маской биографа, хотел забраться хотя бы на Луну, и уж оттуда станет видно так ясно, что моментально пойму фундаментальную истину… …во мне царапалось, грызло меня с неослабевающей силой необычайное волнение, я попросту не мог на нее смотреть, на эту вашу сурьмяную Луну, без того, чтобы не вострепетать, отсюда брожения юношеские, томления – как бы там ни было, спустя годы агрегат был построен и в одно крылатое утро продемонстрирован изумленной публике – белый хвост, яркие огни бортового компьютера, – убедительные речи, бурные аплодисменты; главной особенностью своего детища Леонид называл нулевой порог вхождения, то есть буквально ребенок мог полететь на вожделенную Луну и можно было не опасаться за его здоровье, так сбываются сны, так вырастают неуклюжие сыновья, так опавшие ангелы бередят остаточную память бывших самоубийц.
Наступил момент истины, счастливая группа в сорок два бодрых добровольца из числа отпрысков богатых элит, изнеженных всходов княжеских родов, – нельзя упоминать, что членство стоит немеряных затрат, - молодые, самовлюбленные заступили в ангар, сухо читает прокурор, но в стильную ракету вошел один Леонид Морозов с целью “статической настройки”, велел дожидаться в помещении для посетителей – полукруглом, почти театральном фойе с огромным стеклом, где уже толпились сотни восторженных зевак, и так он десять напряженных минут настраивал систему, а потом ракета, жахнув напоследок рассыпчатой искристой вожжой, попросту улетела, оставив нашего брата в недоумении, в дураках, в расстроенных чувствах, и далее до сердечных колик, рассерженных выкриков и нечаянных слез; ожидали – разъяснится, станет очевидно: до смешного элементарно, - но и спустя месяц Леонид не выходил на связь, статус компании стал шататься, как вершина ветхой пальмы; собственно, кинуты были все: наивные вкладчики, ярые волонтеры, корректные коллеги, лишь мы, пауки запаркетные, остались довольны, потому что ничего путевого не ждали от лихорадочных приготовлений эффективного менеджера, человеческий же социум разрывался от смеха и слез, с трибуны – трубили, газеты – пестрели, имущество компании шло с аукциона под энергичный звяк молоточка, но не хватило, и далее развертывались чудеса юстиции, виновных быстро определили, часть – упекли, остальных – под залог, тем временем Морозов неожиданно вышел на связь, этому удивительному событию посвящена девятая глава нашей монографии “Лунные козни”; отправляя фотоснимки с лунных кратеров и веселые голосовые сообщения, Леонид признавался в презрении к мировому капитализму, также к его мнимому антиподу – тоталитаризму, мне опостылели сии богомерзкие конструкции, обе стоят друг друга, обе одинаково отвратительны для здравомыслящего человека, коли нельзя избежать их, будучи насильным насельником планеты Земля, остается улизнуть в чистый, другой мир, без примет человеческого существования, Луна идеально подходит мне – у нас вместе с камнями, пылью и палящим небесным огнем своя исключительная философия, у меня запасы на сорок лет, проживу как-нибудь, друзья; в таком духе продолжались весточки некоторое время, переходили в туманные камлания и в громкие лозунги, и в слезливые признания, затем автору, видимо, надоело издеваться над человечеством и после серии фотографий, сделанных на сэлфи-палку в лунной глубинке, продуваемой свирепыми ветрами с четырех сторон, - вытянул губы, отклячил зад, - пропал раз и навсегда, и теперь, верно, глушит бочковое пиво в капитанской каюте, злым взглядом провожает яркие капли метеоритов, или бредет по темному руслу высохшей реки и вспоминает популярные песни – на луне, чай, не выступают джаз-бэнды, - на поэтической ноте кончается финальная глава старательного, но совсем бесполезного исследования, потому что, как удалось выяснить нашим специалистам (земные дела тоже входят в их компетенцию), Леонид Морозов не был заправским мизантропом и принципиальным отшельником, он был талантливым мошенником; страдая детской мечтой сделаться богачом, с поразительной ловкостью Л. обстряпал делишки: изготовил муляж ракеты, изобразил видимость работы – множество кнопок и экранов, в день полета вышел из потайной дверцы, погрузился в серый джип и уехал далеко-далеко, не забыв перевести деньги компании себе на серые счета в подставных банках, ракета взорвалась в облаках, ошарашенные зрители наблюдали созданный на компьютере полет пикселей и доверились проходимцу; у одного пожилого мастера он обучился чудесной способности перевоплощаться при помощи парика и косметического набора, обрел благообразный облик дамы с очами яванского лори, и живет припеваючи, ночью развлекается в игорных заведениях, а днем предлагает согражданам бинокли, чтобы они взобрались на башню и хорошенько рассмотрели дальние дали чудного города, и немного выше – крутой лепки пышные облака, я-то сижу там, валандаюсь в розовой пене, сочиняю гениальные стихи и посмеиваюсь над элементарной подоплекой нераскрытых преступлений, но никому не дам меня разглядеть, люди должны придерживаться атеистического мировоззрения.
Владимир Перепелицын: Вейник наземный
☯☯☯
Нет людей
Нет людей
Нет людей
Греки были Греки.
Нет людей
Нет людей
Нет людей
Тюрки были Тюрки!
Нет людей
Но людей
Тоже нет
Греков или Тюрок?
Нет людей
Как людей
Есть как нет
Тюрок или Греков.
☯☯☯
Где бы ты ни был,
Что бы ни говорил —
Тонут во тьме огни.
вьётся веретено
Пламя слоится
Временем, но горит
Этой землей.
вьётся веретено
Медь говорит о бронзу,
Дымит указ
Вместе с телами.
вьётся веретено
Славе короны
Нужен бы глаз да глаз —
Всюда проказа.
вьётся веретено
Текст это просто текст,
Но еще поет
Стрелянный менестрель.
вьётся веретено
Смерть это просто смерть,
Но она одна
Будет на нас смотреть.
вьётся веретено
Инок в лампаде
Видится как монах,
Келья пустует.
вьется веретено
Кажется вот уже
И догорит в веках
Первое племя.
Но говорит оно так,
Будо разум к нему
До семнадцати подоспел,
Если не вспомнить раньше.
вьётся веретено
Знание огненно,
Пепел незнание,
Выучись юноша.
вьётся веретено
И научись искать
По лесам искру.
И распали костры
Громче чем трубы петь.
И научи костры,
Громче лесов гореть.
Если получится
На этот свет смотреть,
То все станет чувством
И заговорит оно.
Только забудь
Как водится, о себе,
Спелое яблоко господа.
вьется веретено
Плод что казался запретным
И переспел
Сок расточает в уксус.
вьется веретено
И перед тем, как скислиться
Насовсем,
Будет вино.
вьется веретено
Вот и вино уже
Не заботит нас —
Томны часы его.
вьется веретено
Слава короны
Произвела указ
Торфу гореть.
вьется веретено
Слава короны
В недрах себя самой
Видела смоль и нефть
вьется веретено
Свет загорелся,
На порохе гонят смерть,
Падает зарево.
вьется веретено
Где бы осталось,
Да все это суета —
Разум не разум.
вьется веретено
Ты говоришь свинец,
Я говорю уран.
Ты говоришь уран,
И я говорю уран.
Небо молчит.
вьется веретено
Кажется полотно
Синтетика, и горит
Быстро и так легко.
вьется веретено
Я уже все забыл,
Я уже все простил,
Ты говоришь "окей".
вьется веретено
Всем все понятно.
Но так всем приятно, что
Только для нас одних это
Всё переплетено.
☯☯☯
Две реки за рекой,
И сухой как сосна закон:
Либо сон,
Либо волком на волю вой
И пугай народ;
Если спишь - не пугай,
Если пугаешь - вброд.
За Уралом стоит Москва,
За Урал - снега.
Где-то есть это место
На карту забыть, сказать,
Что от времени
Ты убегаешь вширь,
А от мира вспять.
Где-то есть это место,
Молчи или расскажи -
Карта просто не реплика
Затемно не прочтёшь;
Не копилка луна;
И стоит это место не так
А лицом в Сибирь.
И листва там давно не иголки,
И не листы.
И не знают в них запаха
Дёгтя из бересты.
И не ряжены - просто сутулы
И неясны
Лица здешние.
По сторонам страны
Две реки за рекой,
И сухой как сосна закон:
Либо ляг
И поспи,
Либо волком на волю вой,
И от времени или мира
Определений -
Гоп.
Ты уже за рекой,
И не топос
А просто
Топ.
И бежишь от бедра,
А вокруг только пыль да тьма.
Вроде б выл,
Но забит духовой поток.
И не в такт, и не в ритм,
Но размашисто,
Да в прихлоп.
И вокруг только сосны,
А сзади одна река.
А с другой берега
Залезают на горизонт:
Может лужа,
А может дорога
И правда была легка.
Только
Топ.
И картина почти как маслом -
Нарисовался.
А на завтрак дай кто-нибудь
Ежели не ограбят.
Полчаса провалялся,
И снова завыл ногами.
И опять от бедра.
И пейзажи всё те же те же,
Горизонта всё меньше
И речка мелькает реже,
И вокруг только чаща и чаща
И тьма да тьма.
Гулкий звон за рекой,
А вокруг вроде вот он мир
Разноцветный, растрёпанный,
В принципе не такой,
Как тот лес за рекой.
И святой как весна закон:
Либо встань и иди,
Либо сиди - стереги,
Да пугай всяк народ:
Что не свой,
Что такой же, свой.
Ты уже не такой,
И не хронос
А просто схрон.
Из тебя на потом,
Как леса,
Прорастят Сибирь.
DVD
Диск 1
Сторона А
Город скрипит челюстью, дергаясь в муках электрического экстаза. Неоновые вывески прокладывают путь. Лица, голоса - фрагменты сменяют друг друга, перестраиваются, изменяются и на выходе обращаются в дешевый Eurodance. Метаморфозы давят и выбираются через рот.
— Мне нужно еще!
Хоровое пение машин и грузных колонок сливается в песню истины. Это Иеремии глава 10, стих 10. Небесный хорал:
— А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его.
И мы молимся. Мы стоим на плачущем асфальте и молимся богу. Машины проезжают, окатывая нас фарфоровым светом - ангелы. Я чувствую любовь, она льется на меня и я молюсь. Я молюсь за то, чтобы гольфист всегда попадал в лунку, чтобы мой император всегда предпочитал правый стакан, но пил из левого, чтобы пуля всегда попадала во Франца Фердинанда, Клинтона и яичко Адольфа Гитлера, я молюсь чтобы Бог предстал мне.
Кислота не была нашим рационом, но как сказал святейший Августин:
— Кислота обязательна, брат. Бычкуй, сука.
Я летаю пятнадцать минут, возвращаюсь на аэродром в Лубанге и захватывают пятерых партизан в плен. Я деморализую врага. Дима летает пять минут и не долетает до Лубанга, падает где-то в океане. Он ловит больших мудрых рыб и наделяет их свойствами бесконтактного боя.
— Я ИМПЕРАТОР ЧЕРНОГО И БЕЛОГО БОГОВ!
Мы оплачиваем счет в баре и едем под соседнюю крышу.
Диск 1
Сторона Б
Венерина мухоловка ловит своих жертв с помощью специального ловчего аппарата, образованного из краевых частей листьев. Захлопывание ловушки возможно благодаря тонкими триггерными волосками на поверхности листьев. Для захлопывания ловушки необходимо оказать воздействие минимум на два волоска на листе.
— Че то принимали?
Я очень часто бываю в церкви. Мой отец - судья. Он выбирает между черным и белым. Я выбираю между черным и белым. Я это мой отец. Бог это судья. Ловчий аппарат захлопывается и кто-то берет нас за руки. Руки переливаются в краске бетонного характера. Мне хочется смотреть, я смотрю и не моргаю. Глаза горят и сыпятся мне прямо в рот. Уже не разглядеть, но свет величественного Архангела достает до самого темного места. Я всегда знал, что святые это Фурри. Я всегда знал. Я видел их во снах. Это сон или память генерирует случайные события. Я пытаюсь избавиться от назойливой мысли, увиденного образа Архангела с полосатым хвостом. Он рычит, он скалится.
— Че то принимали?
Дима не знает, что сказать и говорит. Я знаю, что сказать. Мой мозг это чистое сознание истины. Я есть истина. Я есть закон. Я древний Бог. Я держу связь с корнями, я открываю дорогу в будущее. Дима просто затих. Он знает это. Он восхищен.
— Че то принимали?
Мы не понимаем его, мы не понимаем ни слова. Он мычит, мурчит и что-то сплевывает на священный асфальт. Мы здесь молились и от нас осталась темная мокрота величественного Архангела. Нам нельзя, мы не должны, мы не можем слышать Божественную речь. Дима падает на колени, но я не могу. Я сам Белый и Черный боги. Только первенство божественной благодати может успокоить меня.
— Да, а че?
Архангел поражен, он в смятении. Я знаю, я чувствую, он боится божьего гнева. Моего гнева. Сына великого судьи. Приидите ко мне. Вы искали и вы нашли. Он не Архангел, он сын мелкого божка. Он довезет нас до неба.
Диск 2
Доп. материалы
Музыка электрическими нитями сковывает все мышцы. Неоновый беспорядок в молчании белого кабинета. Они смотрят на меня. Они смотрят. Они смотрят. И смеются. Я слышу, как они говорят про меня, про меня и Диму. Дима ничего не слышит. Мне сказали, что он спит. Он спит вечным снов. Его поглотил саван. Он больше не вернётся, я вижу, как его глаза выкатываются из орбит. Я вижу, как он усох. Он отвратителен. Он обманул меня. Человеческий сын.
— Боже, это нонсенс! Где ваши глаза? Вы давно у врача были?
Винтовые лестницы спускаются с потолка. Нужно уходить. Пока курительные трубки устремлены клювами в окно, они дышат. Я наступаю на белую жижу, она тянет меня, затягивает. Она перебирается с ног на плечи. Белый янтарь. Музыка перемещается из моей головы, выгребая ложкой сознание. И теперь я над ними. Исключительный прелестник хватает меня за ногу и привязывает к окну. Но я поднимаюсь выше, я не он. Слабое звено отделилось.
— Запрещенные препараты какие-нибудь принимаете? А не запрещенные?
Кабинет заполняется белой липкой жидкостью. Его быстро спустили вниз. Как он смешон. Ведь, он не Я. Эфир носит нас, а свет позволяет не видеть нас. Мы неуязвимы, нас невозможно поймать.
— Уля, быстро санитаров сюда!





ОВЕРДОЗ
д.п., д.к., а.ш., д.е. и пр., и пр. тайны имянаречения
свеча горела на сто лет
одиночества нас обрекая:
– ну же, ещё один лепесток,
аленький цветик, мак зла
заморского бренда Zippo;
– ещё один лоскуток,
одеяло, расшитое критским узором
скользящих колёс неотложки;
– ну же, попробуй накрыться
седой плащаницей метели.
пока не накрыло, спрячь стигмы.
ещё один ложный.
поздно.
— — —
обними меня, Квикег:
погреемся в падике.
ну же, погреем
блестящие чудные ложки, сплав из чужих пятаков.
– пока языки зажигалок
с них слизывают тоску, солёную до блевоты.
– пока лепестки
бездонно и сине цветут, в нас самих отражённые;
– пока мы калим в кипятке
к другим берегам припасённые вёсла.
— — —
нагар на зрачках.
овердоз.
поздно.
— — —
ну же, пока потолок озарён
цветением запредельности,
пусть тени танцуют над пламенем,
как и ты над горбатым божком.
пусть тени кружат мотыльками,
пусть вьются венозными стеблями –
мы поймаем, приколем, загоним их
в ледяной инсектарий окна,
в гербарий ветвистого инея.
— — —
обними меня, Квикег, рукой,
вдоль испещрённой дорогами,
но по какой не идти,
иглы фонарных шприцов
не отыщут нас в сумерках.
поздно.
НЕ УМИРАЮ
отрывок из гриппозной поэмы
не умираю –
лэповой вышкой торчу,
подобно ключу без замка и без рая, над лесом.
жалуйся, мачта без паруса: лезут, ползут
по нотным канатам твоим только редкие тучи,
вечные странники метаморфоз.
лес – всё трещит, всё качается – лес, ты возьмёшь
мою глоть, скрипящую электричеством,
в свой атональный блюз-бэнд? сыграем ради приличия
в ящичек с инструментами плотника,
который закрутит нас стружками струн на колки?
сыграем – может, их вспомнит кто – наши каверы классики, хит
осеннего дальнего плавания?
громада двинулась. плывёт,
куда ж нам без неё?
не умираем ли?..

Гроза
Окно раскрыто книгой,
но пыль — не со страниц.
Давно хотелось игр,
и вот — заветный блиц.
На жизнь и смерть согласен,
едва заволокло, —
окно здоровым глазом
отринуло стекло.
Концерт большой и старый,
как в юности, горяч:
приветствуют литавры
многоголосый плач.
Встречаю я меж створок —
чтоб радугой обдать —
того, кто будет дорог,
промокшего до пят.
А вы, в углах багета,
смеётесь над собой:
кружат зима и лето,
да против часовой...
Ну вот и доигрался,
не помня о «потом»:
смычок разжали пальцы,
окно сомкнулось ртом.
☯☯☯
С утра подумал о другом.
Слеза шипит под утюгом
на рыжей клетчатой кокетке.
А карта с надписью «Горсад»
спешит при входе указать:
вы здесь, в голубоватой клетке.
Пусть не дойду, озябну чуть,
но от стыда — разоблачусь
и в голой затеряюсь роще,
где осень, мягко обобрав
остатки ржавого добра,
меня в лазури прополощет.
Ютясь у крепкого ствола,
синица в шутку позвала —
как не рвануться лёгкой грудью
в высоты, чуждые чернил…
Но ты, что путь мой изменил,
войдёшь ли, раздвигая прутья?
☯☯☯
Всё просто: белое — и чёрного
две-три нахохленных фигурки.
И жизнь по-прежнему никчёмная,
хотя завёл тропу и куртку.
Петляем на виду у гибели:
час под окном, и мать загонит.
Не снег — слова в осадок выпали,
напомнив о земном законе.
Но тяжелее нет молчания,
и горче — связки леденцовой.
Друзья, именовав, отчалили —
ты, как вода, перелицован.
Едва в тепле, с надеждой поровну,
стиха проклюнулась частица —
несёшь к реке, где платье сорвано
и жизнь по берегам гнездится.
☯☯☯
Разубеди меня в любви —
нутро по мерке подгони ты;
холодной решкою зенита,
бок о бок лёжа, удиви.
Чтоб у железного пути
не продавал цветов от лени —
и сучковатые поленья
тесать мечтою прекратил.
Разубеди меня: скажи,
топя в дремоте обомшелой,
что сосны — старческие шеи —
с утра не будут хороши.
☯☯☯
Меня за тридевять земель
ты не увёз, пока хватало
полтинника. Я сел на мель:
с глаз пелена — водою талой.
Полей я вдоволь измарал —
вились клубами и осели
слова, и чёрная мораль
питает жадные посевы.
Но озаглавил книгу ты,
и пусть она вовек чревата —
обрывки с прописью воды
переплетаются в кровати.
Я здесь. Не зная берегов,
тонуть я буду ночь за ночью,
пока в ракушке водосточной
шумит низвергнутая кровь.
☯☯☯
Думал выйти сухим из реки,
где родили и где нарекли;
где низала игла трясогузки
голубянок летучие сгустки.
Там, где через нечёсаный бор
прозмеился железный пробор,
я решил, став от края в сажени,
воплотиться в своём отраженье.
Миг-другой, и предстанете вы —
оперённые зыбью травы,
с речью спелой и чуткостью дикой,
в полотне, испещрённом гвоздикой…
Но, к числу прицепляя число,
уж который вагон пронесло —
обессилены вы кандалами
тех путей, что задуманы вами.
И прошу, возвратясь, у воды:
«Вслед за солнцем меня низведи —
пусть укачан я буду, безликий,
с лепестками кровавого блика!»
Для того лишь себя берегу,
чтоб твердить: на моём берегу —
соловьи, что божественно лгали,
и холодный песок под ногами.

Невеста
Февраль.
Скисшим снегом по елям бродила зима.
Всё сгущая, сгущая, сгуща-
я стоял неподвижен
в сугробе по пояс,
о торопливости улицы
не беспокоясь.
В пепле снежинок,
— уникальных таких,
не как у других! —
глубиною ботинок
жизнь нашу меря,
всё, что с тобой
сохранить не сумели.
Потеря!
Потеря!
В сугробе по пояс,
увяз, как в сметане.
Глотал горький снег,
словно сахарный хворост.
Комками густыми стекала зима.
По деревам, хвойным, как плесень,
она
то в пемзе,
то в платье невесты
грустна.
Гроздья
о,
это чувство удара о землю,
как в детстве.
и снег колючий,
словно щетина отца.
могучие руки деревьев,
такие же жёсткие и натруженные снаружи,
с выходящими венами веток,
с кистями, красными от мороза.
как капилляры ещё не созревших яблок
свисают плоды.
а
после детства
некуда деться.
раздеться б,
прижаться б к земле —
в земляную постель
— и чтобы накрыло
теплым мартовским снегом,
пепельным, словно отцовская седина.
(Я вычеркнул это название)
Этой ночью река дотянулась до звёзд,
То ли звёзды упали в неё.
И я как один из угрюмых послов
Второсортной эпохи, т. д., бла-бла-бла,
Уже (вычеркнул эти слова)
Из осколков церебрума. Я
Сам созвездию Цербера,
Как Геркулес, руку вниз (или вверх?) протяну
Ну а ежели в реку я сам упаду —
(Не узнаешь: я вычеркнул эту строку)
(Для читателя вычеркнул этот абзац).
Собака-поводырь
@человек
☯☯☯
Через окна в мир,
что Билл Гейтс рубил, Выходи!
☯☯☯
На улице собачий холод,
а на душе скребутся кошки.
Младые люди, старый город выходят
в окошки.








WALKING AROUND
Так случилось: я устал быть человеком.
Я захожу в магазины модной одежды, в ночные клубы,
скорбный, непроницаемый, словно фетровый лебедь,
медленно плывущий по водам рожденья и смерти.
Я готов рыдать от запаха парикмахерской.
Я хочу заснуть — всё равно, под камнями или под ватой.
Меня тошнит от садов, от магазинов,
от новых вещей, от лифтов, от зрелищ.
Так случилось: мне надоели мои ногти и волосы,
мои ступни, моя тень.
так случилось, я устал быть человеком.
Надо признаться, это так упоительно —
взять и напугать адвоката срезанной лилией
или прихлопнуть монашку ударом в ухо.
Это так замечательно —
расхаживать по улицам с зелёным ножом
и орать во всю глотку, умирая от холода.
Я совсем не хочу быть корнем в потёмках,
тощим, нерешительным, вздрагивающим во сне,
уныло ползущим сквозь мокрую глину,
впитывающим и размышляющим, жадным до пищи.
Меня доконали мои неудачи.
Мне надоело жить среди корней и могил,
всегда под землёй, в душном погребе с мертвецами,
окоченевшим, умирающим от тоски.
И вот понедельник пылает, как лужа бензина,
когда я иду на прогулку своей арестантской походкой;
он взвизгивает на ходу, как проколотое колесо,
и оставляет в ночи свой кровавый след.
Он загоняет меня в углы, в сырые квартиры,
в больницы, где прямо из окон торчат чьи-то кости,
в сапожные мастерские, пропахшие уксусом,
в гнусные щели улиц, забитые мусором.
Вот птицы жёлтого цвета, и мерзкая требуха
развешена на подъездах ненавистных домов,
вот вставная челюсть, забытая в кафетерии,
вот зеркала, что не могут не плакать от стыда и от страха,
и повсюду — зонты, пуповина, ядовитая злоба.
Я гуляю, спокойный, у меня есть глаза и ботинки,
у меня есть ненависть и забвение;
я прохожу сквозь конторы, сквозь врачебные кабинеты,
сквозь дворы, в которых сохнет бельё на верёвках:
полотенца, кальсоны, рубашки, с которых стекают
долгие мутные слёзы.
Я ОБЪЯСНЯЮ
Вы спросите меня: И где сирень?
Где метафизика, усыпанная маками?
Где дождь, выстукивающий
слово за́ словом,
их наполняя иглами
и птицами?
Я расскажу вам всё, как было.
Я жил в одном квартале
в Мадриде, с колоколами,
c часами и деревьями.
Оттуда можно было видеть
сухое лицо Кастилии,
похожее на океан из кожи.
Мой дом назывался
домом цветов, потому что повсюдустояли герани: это был
прекрасный дом
с собаками и ребятишками.
Рауль, ты помнишь?
Ты помнишь, Рафаэль?Федерико, ты помнишь
там, под землёй,ты помнишь этот дом с балконами, в котором
июньский свет переполнял твои уста цветами?
Мой брат, мой брат!
Всё наполнялось
голосами — торговые лавки,
горы свежеиспечённого хлеба,
рынки в моём квартале в Аргуэльесе,
памятник — белая чернильница среди мерлуз:
ложки с оливковым маслом,
ритм рук и ног
был слышен на улицах,
метры, литры, острая
эссенция жизни,
рыбные лавки,
черепица на крышах с холодным солнцем,в ней застревают стрелы,
безумный тонкий мрамор картофеля
и томаты до самого моря.
И однажды утром всё запылало,
и однажды утром все очаги
выплеснулись на землю,
всё пожирая,
и повсюду огонь,
прах повсюду,
повсюду кровь.
Бандиты с самолётами и маврами,
бандиты с кольцами и герцогинями,
бандиты под благословение чёрных братьев
пришли по небу убивать детей,
и по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.
Шакалы, от которых отвернётся шакал,
камни, которые выплюнет чертополох,
гадюки, которых возненавидят гадюки!
И я видел, как перед вами кровь
Испании поднималась, чтобы
утопить вас в одной волне
гордости и ножей!
ПАСТОРАЛЬ
Копируя вершины, реки, тучи,
я вынул из кармана карандаш,
отметил поднимавшуюся птицу
и паука, плетущего свой шёлк,
со мною не случалось ничего,
я был как воздух, под открытым небом
росла пшеница, мой полёт смещался
от лёгкого дрожания листа,
от взгляда рыбы из глубин недвижных
озёрных вод, от статуй облаков,
от дождевой таблицы умножения.
И ни о чём подумать я не мог,
лишь об одной прозрачной песне лета,
история сидит в своей телеге,
разглядывает саван и медали,
а я способен ощущать лишь реки,
чтобы с весной побыть наедине.
Пастух, пастух,
тебя там заждались!
Я знаю, знаю, но сижу на берегу
и слушаю, как здесь трещат цикады;
пусть подождут они, себя я тоже
немного подожду, ведь я хочу
узнать, как мне живётся этим летом;
когда я повстречаюсь сам с собой,
я рассмеюсь и тотчас же засну.
СНЫ ПОЕЗДОВ
Спят беззащитно поезда
на станции, глубокой ночью,
совсем одни, без паровозов.
Я колебался на рассвете:
пошёл разыскивать секреты,
забытые в вагонах вещи
и мёртвый запах путешествий;
и я сидел в пустом вагоне
среди давно ушедших тел.
А в плотном воздухе висели
обрывки прежних разговоров
и чьих-то разочарований.
Потерянные души были
похожи на ключи, когда-то
уроненные под сиденья.
Все пассажиры Южной ветки
с запасом саженцев и куриц
должно быть умерли давно,
потом сюда вернулись с плачем,
чтобы ходить внутри вагонов
с пылающим огнём гвоздик:
я тоже еду вместе с ними,
здесь всё сопит, шипит и дышит,
состав стоит на мокрых рельсах,
мир движется в его глубинах,
и я, уснувший пассажир,
вдруг неожиданно проснулся.
Тут этот поезд вдруг поехал
внутри меня, как будто в детстве,
пересекая все границы,
под перестук колёс на стыках,
сквозь белый утренний туман,
навстречу радостному лету.
И тронулись все поезда,
а их балластные вагоны
боль заполняла, словно щебень,
и этот неподвижный поезд
куда-то мчался ранним утром,
постукивая на костях.
Я в нём сидел совсем один,
но я был не один, я ехал
среди таких же одиночеств,
они стояли на платформе
и ждали, что мы все поедем
куда-нибудь, куда-нибудь —
я был похож на мёртвый дым
среди бесчисленных созданий,
среди чудовищных смертей,
я потерялся, заблудился
в своей поездке, где ничто
не двигалось и не стучало —
одно измученное сердце.
ЭГОИСТ
Нет никого в саду, и все на месте:
зима с её зелёной чернотой,
день, словно белый молчаливый призрак
в холодных ризах, медленно идущий
по узкой лестнице. Приходит час,
когда никто не ходит по гостям,
и только капли зимнего дождя
висят на тонких обнажённых ветках,
а мы с тобой в краю уединенья
непобедимо, одиноко ждём,
что не придёт никто, не улыбнётся,
награду не вручит и ничего
не станет предлагать.
Приходит час
упавших листьев, измельчённых, ветхих,
собой покрывших землю: всё, что было
и всё, что не было, вернётся в глубину,
лишившись зелени и позолоты,
и прорастёт корнями, чтобы вновь,
на части распадаясь и рождаясь,
подняться из земли весне навстречу.
Потерянное сердце! Этот сан
я принял сам, и вместе с ним обрёл
надежду благородных превращений!
И нет вины ни в том, что я бежал,
ни в том, что я обратно возвратился.
Несчастье остаётся неизбывным,
а счастье делается только горше,
когда его целуешь каждый день,
и нет пути к свободе, кроме смерти.
Что делать, если выбрала звезда
меня — быть молнией, и если каждый шип
меня пронзает болью за других?
Что делать, если каждое движенье
моей руки встречает эту розу?
Просить ли мне прощенья у зимы,
далёкой и почти недостижимой,
за то, что я хотел замёрзнуть так,
чтобы никто не пострадал от счастья?
Блуждая по дорогам
далёкой Франции, в туманных номерах,
я возвратился к собственным пределам —
в свой одинокий сад, к своей общине,
и день, неотличимый от других,
спустился по невидимым ступеням
в одеждах нестерпимой чистоты
туда, где пахнет сыростью и прелью,
готовностью уйти и возвратиться:
и этот запах бередит мне раны,
а я им надышаться не могу.
ВРЕМЯ
День состоит из многих дней, минуты
растягивают час, часы стоят,
металлы, стёкла — всё покрыто пылью,
предчувствия, костюмы в гардеробе,
заботы, неотправленные письма.
День — это пруд в невидимом лесу,
в нём слышен шум листвы и разговоров,
но звуки падают в немую воду,
как камешки, упавшие с небес.
И рыжий лис на тёмном берегу
оставил золотистые следы,
как маленький воинственный король:
день собирает шорохи, осколки,
оброненные вещи, а потом
швыряет их в огонь, и в темноте
сверкает пламя прожитого дня
и умирает по приказу ночи.
ЗИМНИЙ САД
Пришла зима. И медленные листья,
одетые в молчание и злато,
диктуют мне блистательные строки.
Я — снежная тетрадь,
широкая ладонь или поляна,
застывшая округа,
безмолвное угодье зимней стужи.
Огромный мир шумел своей листвою,
пшеничные созвездья полыхали
в ночи, как алые цветы ожогов,
затем настала осень, и вино
свои на небе начертало знаки:
всё кануло, движенье небосвода
перевернуло чашу лета,
и кочевые облака померкли.
Я буду ждать на траурном балконе,
среди плющей, как бы в далёком детстве,
когда земля свои расправит крылья
над обезлюдевшей моей любовью.
Я знал, что розе суждено упасть,
что нежность персика недолговечна,
но возродится косточка его:
я охмелел, пригубив эту чашу,
и море стало мне мрачнее ночи,
когда румянец обратился в пепел.
Земля лежит сегодня
в спокойном сне, забыв свои вопросы,
расправив шкуру своего молчанья.
Я возвращаюсь к жизни,
завёрнутый в холодный плащ дождя,
в далёкий смутный гул колоколов:
я задолжал безжизненной земле
моих ростков свободу.
Новелла №6
_
Родному городу
А что, как разлетится этот туман и уйдёт кверху, не уйдёт ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?
Ф.М. Достоевский, Подросток
Лица:
Фотокорреспондент — около 25 лет
Проводник — лет 35
Патрульный №1
Патрульный №2
Дети — забытые, беженцев
Памятник Городу из бронзы, меди, железа и гранита в натуральную величину
Время:
Конец июня. Вторая половина дня – вечер – ночь (белая) – утро. Например, через 27 лет. Но, надеюсь, никогда.
- День. Ветрено, солнце. На (бывшем?) Троицком мосту стоят двое. Легко одетый молодой человек с фотоаппаратом. И мужчина в костюме. Оба в солнцезащитных очках. В нескольких метрах друг от друга. Молодой человек, фотографируя, делает шаг назад. Передёргивается, испуганно оборачивается. Окликает мужчину, но слов не слышно из-за ветра.
Разговаривают, стараясь перекричать ветер:
Проводник (подходя). В чём дело?
Фотокорреспондент. Как это?
Проводник. Что? (Фотокорреспондент указывает направление головой) Кошка?
Фотокорреспондент (восторженно). Да!
Проводник. Не успели?
Фотокорреспондент. А будут ещё? (Проводник кивает головой) Но как?!
Ветер стихает.
Фотокорреспондент. Я думал, город уж совсем мёртв.
Проводник. Они ー последние.
Фотокорреспондент. А едят что?
Проводник. Патрули подкармливают. Видите, к посту побежала?
Фотокорреспондент. А всегда много их было, не знаете?
Проводник. Было… Было достаточно.
Фотокорреспондент. Вы местный?
Долгая пауза.
Фотокорреспондент. Сколько вам тогда было?
Проводник. Десять.
Пауза.
Я очень плохо всё помню.
Фотокорреспондент. Плохо?.. Десять ー это уже, знаете, сознательность. Я вот с трёх всё помню.
Пауза.
Простите. Простите, наверное, не стоило.
Проводник. Всё в порядке.
Фотокорреспондент. Не стоило спрашивать.
Проводник. Всё в порядке.
Фотокорреспондент. Спрашивать не стоило, да и не надо…
Проводник. Всё в порядке. Сегодня я ваше доверенное лицо. Всё хорошо.
Фотокорреспондент. Не надо, да и вам неприятно…
Проводник. Всё хорошо. Говорите. Только…
Фотокорреспондент. Только негромко (?)
Проводник. Негромко.
Ветер.
Разговаривают, стараясь перекричать ветер:
Фотокорреспондент. Зачем?
Проводник. Что?
Фотокорреспондент. Зачем вы это сказали? Что плохо всё помните?
Ветер стихает. Пауза.
Я же фотографировать должен, а не болтать, да? У меня с этим проблемы, мне кажется, когда-нибудь это выйдет мне боком. (пауза) Но я смотрю на вас и мне кажется, что я всё могу рассказать и обо всём могу спросить, я не понимаю, почему…
Проводник. Нам всем нужен кто-то, кто будет слушать.
Фотокорреспондент. Даже не просто будет слушать, знаете, так, функционально, потому что может, потому что привык, что на уши ему приседают, потому что работа у него такая, призвание, задача, ему в общем-то несложно, всё такое, нет! Ему правда интересно. А я не хочу ни подставлять вас, ни обременять… Вряд ли рассказы о детстве входят в ваши служебные обязанности. Предполагаю, что вам запрещено. Как и мне ー вопросы задавать.
Пауза.
Я просто понять хочу, только подтверждение получить, что люди здесь жили. Не было и нет, говорят, больше такого города.
Проводник. Вы много где были?
Фотокорреспондент. Нет ещё. Пробирался вот через Запад, куда допускали. Где получал разрешение ー там и фотографировал. Или просто на проезд хотя бы. Не всегда теперь знаешь, где какое территориальное новообразование и что они там себе напридумывали.
Проводник. Это опасно.
Фотокорреспондент. Ну…я всё ещё жив. (пауза) В общем, да. Это ー конечная точка. Первая конечная точка. На Северо-Западе.
Проводник. Откуда сами?
Фотокорреспондент. УНР.
Проводник. Из столицы?
Фотокорреспондент. Да. Были в Екатеринбурге?
Пауза. Ветер.
Проводник. Нет. Я нигде.
Пауза.
Не был. (короткая пауза) Идёмте. Я вам кошек покажу.
- Вечер. Дворы Капеллы. Фотокорреспондент гладит кошку, сидящую у него на руках.
Фотокорреспондент. Ручная совсем! Удивительно.
Проводник. Как вы получили пропуск?
Фотокорреспондент. Вы не знаете?
Проводник. Это не входит в мои служебные обязанности.
Пауза.
Фотокорреспондент. Пришло письмо. С гербом, печатью главы, всё как полагается. Ну как пришло ー принесли. Молодой человек, в форме, в какой никто нигде не ходит, кроме как здесь. Адресату лично в руки, тут же подписываешь тысячу листов о неразглашении, это до получения письма, инструктаж, тоже до. И то же самое всё после. (пауза) Я как герб увидел… Он же как сказка. Ну, город. Как сказка, как миф… Не как ЗАТО, не как памятник, не как погранпост, не как последний рубеж. Как колыбель революции, «город пышный, город бедный», вот это всё… И это всё никуда не денется, ничего с этим не станет. (пауза) Как мечта. И когда-то она могла осуществиться… (целует кошку в нос, улыбается, отпускает) Но я родился позже. (оглядываясь по сторонам) Теперь представить даже… На Итальянской жила первая любовь моей мамы. Родители познакомились на набережной Фонтанки, на пересечении с Ломоносова. Значит, кто-то шёл из бара, а кто-то — из театра. (пауза) Мама уехала за отцом на Урал, он был военным, она его любила. За два года. До этого. А я… Я…я сейчас стою…
Пауза.
Гранит. Тот же?
Проводник. Да. (пауза) В том числе.
Пауза.
Фотокорреспондент. Господи. Я бы так хотел знать.
Проводник. Знание вас убьёт.
Фотокорреспондент. Мне всё равно. Я живу ради него. Это будет правильно. (пауза) Это будет очень справедливо.
Пауза.
Почему меня сюда пустили?
Пауза.
Говорят, иногда пускают.
Пауза.
Но никто не возвращается.
Пауза.
С другой стороны ー они подписывали соглашение о неразглашении. Как и я. Кто же теперь знает.
Пауза.
Где они.
Пауза.
Патрульные у вас меньше, чем вдвоём, не ходят? Так?
Проводник. Никогда.
Фотокорреспондент. Им страшно?
Проводник. Да.
Пауза.
Нет.
Фотокорреспондент. Что?
Проводник. Вы сирота?
Фотокорреспондент. Да.
Пауза.
Да. А ещё я хороший фотограф.
Проводник. Это важно (пауза) Молодой человек, я помню праздник. Там, на площади. Большая площадь, как вам кажется?
Фотокорреспондент. Да. А что?
Проводник. Сколько там, по-вашему, может поместиться человек?
Пауза.
О чём бы вы не подумали ー их там было вдвое больше. Их везде было больше, чем надо. И тогда они уже были не те, даже те, что коренные ー были какие-то не те. Жара, как сегодня утром, плавила последние мозги у тех, у кого они ещё оставались. Жары не должно было быть, должен был быть ветер в это время, и ветер был, сбивал с намеченного к площади пути, закидывая пылью бесконечных строек и оканчивающихся ничем, уродством, реставраций. Но затем ветер исчез. Природа, как и всё вокруг, сошла, казалось, с ума: худшие её проявления сменяли друг друга. Здесь нет ничего хуже июльской жары, запомните это, особенно в начале июня, нет ничего хуже сквозного ветра, сталкивающего прохожих с узких улиц на отбитые поребрики. Люди съезжались на праздник, из столицы, когда она была ещё одна на всех, из области, издалека, на долгие выходные. Мать не пускала меня на такие праздники, она придерживалась по возможности определённой позиции по отношению к внешней и внутренней политике государства и отдельных его лиц, отец же был с ней далеко не во всём согласен, но в конце концов они оба решили, что надо уезжать из того, что тогда ещё называлось страной, дальше от перекладывания вины за мёртвых, а не за тех, кому только предстоит умереть, от гула вертолётов над Марсовым полем. Так подумали почти все наши друзья, и в городе, в толпе не осталось почти красивых, умных, любимых лиц. Всё больше народ: туристы и иммигранты, пьяные и праздные, уставшие и без-умные. Потерянные и Последние, среди которых были и мы.
Мать не пускала меня на такие праздники, но я пошёл. Я убежал. Меня никто и не держал особо: в семье это было не принято. Но от толпы ー от толпы я сам всегда старался держаться как можно дальше. И всё же: я хотел не отставать от друзей, хотел казаться взрослым. Друзья у меня остались уже невесть какие, но тогда я этого ещё не понимал. Если вы когда-нибудь были в толпе, вам не надо рассказывать, каково это. Особенно, когда исчезает ветер и солнце ー в зените. Над той самой колонной, в ограду которой вдавлены человеческие тела. Благо, нас оттеснили к Дворцу, когда появился этот человек. Он появился над аркой Штаба, на колеснице, рядом с фигурой Славы. Он был молодой и красивый, голос у него был громкий, чистый и ясный. Ниже, прислонившись к конной фигуре, стояла девушка, тоже молодая и красивая. Люди давно не видели таких красивых, умных и спокойных лиц, блестящих и ясных глаз, стройных и сильных тел без камуфляжа, без погон, без мундиров, без пиджаков. Я ー не видел никогда.
Я не помню, что он говорил, но помню звук его голоса: как он остановил беснующуюся толпу, как снова она пришла в движение с воплями одобрения, когда он замолчал. Как исчезли они с арки, как не смогли их тогда поймать.
Они вызывали восхищение и восторг даже у тех, кто был невосприимчив ни к каким речам, как, например, моя мать. Скоро и она уже в экстазе доказывала отцу: «Он же ангел! Ангел исчез с колонны! Покровитель явился, чтобы вести нас за собой! Мы никогда не были со всеми, мы всегда были автономны, никто не мог нас обвинить, никто не мог нас притеснить, никто не мог…» Она уверяла, что время настало, что город, срединный, амбивалентный, никому не принадлежащий, кроме своего создателя, которого больше нет, должен освободиться от любого влияния, от государства, сепарироваться от родителей — Запада и Востока. Он — другое, он — новое и чистое, единственно разумное и светлое. Ангел и правда исчез с колонны.
Я не знаю, что произошло дальше. Этого я уже не видел. Но три дня. Три дня хватило тем, кто остался. Три дня, чтобы воцарился Ад на проклятой земле. Три дня, чтобы природа человеческая взяла своё; три дня, чтобы победить Разум, чтобы кровью обагрились проспекты, чтобы пропитались ею и добрались до костей тех, кто своими телами заложил фундамент Города. В процессе подавления беспорядков те двое, с колесницы, были убиты. Юношу показательно казнили, распяв на Андреевском кресте, видимо, в насмешку. Когда испустил дух ー кинули в реку вместе с крестом. Девушку изнасиловали ー и туда же.
Пауза.
Фотокорреспондент. Кто были военные?
Проводник. Я этого не знаю. Я не видел. Меня, как и вас, здесь уже не было.
Пауза.
«В процессе подавления».
Пауза.
Это вовсе не значит.
Пауза.
Что это были военные.
Пауза.
Река в ответ на смерть молодых людей вышла из берегов, как не выходила, может, никогда. Затопила кладбища. А потом кем-то было принято решение.
Пауза.
Фотокорреспондент. Вы уехали в первую волну.
Проводник. Мать пришлось тащить силком, это зараза крепко засела у неё в мозгу.
Фотокорреспондент. Вы не видели эмблемы на бомбардировщиках.
Проводник. Она умерла через несколько недель.
Фотокорреспондент. Нам всегда говорили, это ー диверсия.
Проводник. На финской границе.
Фотокорреспондент. Тогда же, кажется, была война.
Проводник. И действительно, оказалось, опухоль какая-то в мозгу.
Фотокорреспондент. Что же ещё они могли сказать ー это было бы очень справедливо.
Пауза.
Это было бы справедливо?
Пауза.
Проводник. Я рассказал всё, что знаю. Что видел.
Фотокорреспондент. Но ваш рассказ только сбивает с толку.
Проводник. Вы хотели бы знать больше.
Фотокорреспондент. Я хотел бы знать точно.
Проводник. С этим вам уже никто не поможет.
Фотокорреспондент. Я хотел бы знать.
Проводник. Все, кто что-то видели, ー мертвы.
Фотокорреспондент. Я хочу знать точно.
Проводник. Вам помогут только мёртвые.
Фотокорреспондент. Я хочу знать.
Долгая пауза.
Проводник. Вы хотите знать?
Пауза.
Вы много хотите.
Пауза.
Молодой человек.
Пауза.
Знаете, что.
Пауза.
Идите за мной.
Пауза.
Вдруг они с вами.
Пауза.
Заговорят.
- За ворота под крытой галереей между Малым и Большим Эрмитажами из цельного гранита выходит Проводник. Лицо искажено нервной улыбкой, глаза уставлены в пол, на лице ー капли пота. Рядом с воротами лежат рюкзак и фотоаппарат фотокорреспондента. Через несколько секунд где-то справа за воротами, очевидно, из подвала, раздаётся крик. Проводник зажмуривается, сжимается весь. Крик резко прекращается. Проводник стоит какое-то время сгорбившись, прислушиваясь. Затем медленно, не разгибаясь, подходит к вещам фотокорреспондента. Смотрит на них тупо, отсутствующим взглядом. Вдруг к горлу подступает тошнота, Проводник закрывает рот рукой, стараясь сдержать рвотные позывы. Прислушивается. Разгибается, делает глубокий вдох. Берёт рюкзак и фотоаппарат. Поднимается с ними на портик, опирается на ногу одного из Атлантов. Стоит. Через несколько секунд с противоположной стороны к нему подходит молодой человек, бодрый, высокий, крепкий, 20-летний, с улыбающимся, открытым лицом, ясными глазами. В форме, которую нигде, кроме как здесь, не носят, с автоматом на ремне за спиной. Проводник поднимает голову, смотрит на молодого человека, молча протягивает ему рюкзак и камеру. Стоит с вытянутой рукой. Пауза.
Патрульный №1. Это всё?
Проводник (подавлено, негромко). Вам всё мало?..
Патрульный №1 (принимая вещи). Тааак! Чего это вы, Евгений?
Проводник. «Чего?»
Патрульный №1. Грустный какой-то.
Проводник. Устал.
Патрульный №1 (подходя к проводнику). Устал? От чего же? Мальчика жалко? Дурачка-то этого? Наверняка предупреждали дома все, а он и не слушал… Сказки страшные рассказывали… А он не верил…
Проводник. Увольте. Не могу больше.
Патрульный №1. А кто ж товарищей кормить будет? Или мажоров стало жалко? Буржуйских отродий? Откуда он там? Уральская Республика? Регионалов, значит, противников централизации жалеем? (пауза, ближе) Туда им и дорога ー в Ад.
Проводник. Да не буржуй это, а мальчик совсем, как ты…был. Мать у него отсюда. Сирота.
Патрульный №1. (отходя) Ну это понятно. Не будь он сиротой ー сюда бы и не пустили.
Проводник. Фотограф. (показывает на рюкзак и фотоаппарат) Хороший. Не видишь разве?..
Патрульный №1 (пожимая плечами). Вижу, что камера японская. Денег стоит.
Проводник. Хоть бы фото посмотрел. Там, может, что-то кроме этого…склепа под открытым небом есть…
Пауза.
Патрульный №1. А, может, и посмотрю.
Проводник. Посмотри. Больше ведь нигде не увидишь. Кроме как в цифровом виде.
Пауза.
Патрульный №1. Увижу. Ещё как увижу. Своими глазами увижу. И очень скоро. Выпустим мы этих упырей из подвалов. И пойдут они на Запад. Клыками и когтями врагов рвать. И снова одна страна будет. И кончится служба. И откроют границы. И я уеду отсюда. И увижу. И не только горы Уральские увижу. Чего я только не увижу.
Проводник. Молодой ты ещё… Откуда же ты знаешь, что они пойдут на Запад?.. Наивный… Ты здесь навсегда.
Пауза.
Хватит. Отпусти меня.
Патрульный №1. Приказа не было такого.
Пауза.
Проводник (оглядываясь на Атланта). Первого…при мне ещё подорвали. (пауза, Патрульному) Там ー дети. Ты знал? У них появились дети. Дети подземелья, забытые, проклятые. Выросшие на человеческом мясе и крови. Клыки у них с рождения, а глаза прозрачные, стеклянные, с мутной пеленой. Забытые Богом, мёртвые дети…на руках у них кошки…живые… (оседает на землю, прислоняется к постаменту, задирает голову) Они-то как были…даром что плоть едят за детьми…
Пауза.
Патрульный №1. Понятно. Погоди-ка секунду, старик.
Патрульный №1 уходит в ту же сторону, откуда пришёл. Проходит минут пять, Проводник не двигается, глядя на лицо Атланта. Патрульный №1 возвращается. Встаёт над Проводником.
Патрульный №1. Прогуляемся до Канавки?
Проводник. Нет. Нет, спасибо. (пауза) Сигарету бы или табаку…
Патрульный №1. Нет ничего, отец. Не положено. Нет ничего… (резко садиться на корточки перед Проводником, тот тут же опускает голову, смотрит молодому человеку в глаза) Ничего нет, Женя, ничего не было никогда: ни страны, ни города, ни народа, это всё сон твой, кошмар вечный-бесконечный, всегда с тобой, помнишь, ты мультфильм в детстве смотрел, а там твари дьявольские на землю сошли и всё сном оказалось, так так и есть всё: ни птиц, ни львов, ни ангелов, ни соборов, ни всадников, ни царей, ни вождей, ни президентов, ни губернаторов, ни флагов, ни демонстраций, ни протестов, ни войн, ни рек, ни кораблей, ни патрулей, ни тюрем, ни пушек, ни салютов, ни праздников, ни побед, ни матери твоей, ни отца, ни крови их, ни детей, ни кошек, ни мальчиков, ни -тий, ни -изм-ов, любое стремление к свету обернётся смертью, обернётся мраком, мальчик будет распят, девочку возьмут силой, ангела загрызут и сожрут забытые дети с мутными глазами последних здешних горожан.
Пауза. Проводник медленно, синхронно с Патрульным №1, поднимается. В руке у него ー револьвер, переданный Патрульным №1 во время монолога.
Патрульный №1. Идите, Евгений. Идите.
Проводник выходит на Площадь, поднимает голову, смотрит на Ангела на Колонне и стреляется. Патрульный №1 закуривает, глядя на труп на Площади. К нему подходит мужчина лет 40, Патрульный №2. Выбивает из рук сослуживца сигарету, даёт подзатыльник, смотрит на труп на Площади.
Патрульный №2. Гляди-ка! И этот сам управился. А чё не у воды?
Патрульный №1 (пожимая плечами). Не пошёл.
Патрульный №2. Хреново.
Патрульный №1. Уберусь.
Пауза. Пробегает кошка.
Патрульный №2. Второй месяц всего у тебя, да? Быстро освоился.
Патрульный №1. Ко всему человек привыкает.
Патрульный №2. Некоторые и недели не держаться. И вот так же. Только у Канавки. Распоряжение всё-таки: увольняться — у Канавки.
Патрульный №1 смотрит на небо. Улыбается ласково, восторженно.
Патрульный №1. Ночи одни здесь чего стоят… Красиво всё-таки…
Пауза.
И всё-таки…
Пауза.
Всё-таки всё скоро закончится. Служба наша закончится. И поедем мы!..
Патрульный №1 поворачивается к сослуживцу, замолкает. Смотрит ясными своими глазами ему в лицо. Глаза Патрульного №2 подёрнуты мутной пеленой.
- ОТРЫВОК ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
«…ранее неизвестные физические мутации и массовое психическое расстройство предположительно в результате заражения трупными ядами. В последнее время агрессия горожан (не покинувших город в первую и вторую волну, т.е. преимущественно представителей маргинальных слоев населения) сопровождается склонностью к каннибализму. Аномальная жара способствует распространению эпидемии. В ходе проверки городских кладбищ и более ранних захоронений причины и источник внезапного заражения установить не удалось. В припадках горожане говорят о "костях жертв тираном убиенных, на коих всадник стоит, поправ память невинных, в фундамент города двенадцатью рядами уложенных". Очевидно, речь идёт об останках погибших при строительстве города рабочих, массовые захоронения которых обнаружены не были. Уровень воды в городских водоёмах стремительно растёт, присутствует риск затопления, в том числе вышеупомянутых кладбищ, что приведёт к возникновению новых возбудителей инфекций. Комитет по чрезвычайным ситуациям считает необходимым немедленно устранить источник заражения путём полного уничтожения города…»
22.06.23 ー 06.07.23 / 13.08.23
26.08.23
Τηθύς1
Та ветка над сердцем бела уже,
море — вверху.
Пауль Целан
Перевод Алёши Прокопьева
☯☯☯
Весь летний дождь сжат до интимного жеста,
кто медленно-медленно пятится тайной
твоей от берега в пальмах до края
венчального платья – все
львы и грифоны похожи на спящих детей, как
будто одной танцевать в залах римских
палаццо. Здесь чокнуться не с кем,
лежать и глядеть на стекло
катая во рту, как в огне, верджинийскую
граппу, и рядом ложиться пятном,
что от солнца легло похожим
на пепел, как если бы
---
сбрасывал
Наполи.
☯☯☯
За шторками сгустившийся канкан – от здешних
окон до воздушной ямы – всё исцеловано,
и брошено к ногам люминесцентной
барышни как если б, она была
блистательный наган, где в паузах играет Элвис
Пресли. Нет музыки вокруг, но есть печаль
и всё потешно перед новосельем, по
улице нестись и чуять снег, где
каждая осечка на счету, не шаль Святой Марии,
а прозренье – на месте встать, и выдернув
чеку, смотреть сквозь дым на голово-
круженье. В нём мельтешение
контурных скачков – иконописцев бдительность
лихая и русской тройки закадычный след, о
эта глиняная тяжесть вековая, и нате,
за секунду выход в люди, когда
на стенку брошена парча, а в ней
вода бежит по амплитуде –
и замирает лезвием
---
меча.
Навигация
Весь этот пласт задумчивой любви на корточках
у берега двоится – нет раздеваний на́ спор
у воды и только ребра тайные сидят
трезубцами в монтажных
рукавицах, и на висках подпольною привычкой,
сжимают запрещенный конденсат. Сапфир,
как есть, и мать его дери – он велся
на заморское чутьё, куда б
его насильно не вели, как сцену затяжной рабо-
торговли: он видел всюду кованые кровли
и холодок роскошных брызг Тре́ви. И
в гильзу из фольги весь этот
нерв с гребным винтом, когда-нибудь вопьётся,
в мензурках нефть с древнейшими жуками,
застопорится кэп на проходной – куст
розовый в рубахе с петухами,
пускающими свист, само собой. Все проповеди
тянут влажный рот, до насаждения вокруг
себя проталин – вода расступится, и
гущ кофейных гравий, себя на
цыпочках сквозь
дно пере-
---
несёт.
☯☯☯
бесконечность женской вуали
рукотворная миссия ВМФ
или чья-то спонтанная шалость
туман
и снова туман
в выигрыше в эту погоду
только смирение
связанный по рукам и ногам
грифом /совершенно секретно/
и бетонной опалубкой
ты на месте стоишь
должно быть именно так
в древнем Египте
уверенно и беспристрастно
создавались династии
слой непроглядной материи
запахи трав и цветов
слой непроглядной материи
певчие звуки и шелесты
слой непроглядной материи
отсутствие случая
…
собственный сон досмотреть
121
Я виню себя в том, что в тебе не найти искривившейся
ветки, где над темечком взвоет сирена, и матрос
часовой, весь похожий на сажу казенную,
между шконкой себя разместит и
присутствием дна. Не рубильников быстрое клацанье –
скрип вагонетки, от которого радиоточек пестрит
глубина. И как яблоня в ливне продольном
смещается в омут, так на лицах без-
усых мелькает взрывная волна, тут из пены забортной
срастается новенький Ромул – с углекислого газа
бегущий к вершине холма – это страсть его,
страсть его, икры жены и затворная
рама, он прогулочным шагом всю толщу воды
навестит, где пройдёт незамеченным
мимо таможенных рамок, чтоб
домашнюю утварь из
краденой
глины
---
лепить.
Приливы
Красавицы взяли своё и продолжили шествие, окру́га
пестрела новоявленным именем жемчуга, как
если б Коперник снимал ожерелье с
женщины, планет заметая
следы и прибрежного кемпинга. Все эти приливы без
вывески и процветания, слегка бирюзовая, как
водевиль, дислокация – или витрина
для разовых игр, или чей-то
улов: морского ежа католический купол без игл, руда
намагниченной компасной стрелки без равных
углов. Встать во весь рост на пригорке,
отлитым из розовой бронзы,
гальваническим мальчиком с переносицей смуглой и
отложенным действием – это полдень – равное
время неразличимых спрятанных мест,
в простыню завернись, как в
газету – с головой – извлекая на берег из подводного
царства невест. Нашумевшая дымка закрутится
ниткой, накинутой на изголовье лагуны
флиртующей, лежать наравне
с акваторией валетом крестовым внахлест: то буйков
самопальная линия, то взлетающие капустницы,
перед этим соблазном нечаянным, дать
себя в полный рост обнаружить,
и на сушу сойти резвым
голубем, точно в
сплетнях
---
портовый
матрос.
Цусима
Это случилось вечером под водой, краб-арбитр об
пандус железный клацал клешнями, солнце
колбой мерцающей льнуло к лагуне и
высоко, новорожденный Пётр
вслепую играл ключами. Жмурясь, и разница тьмы
в сумерках повседневных, скрученный берег
скалистый с лестницей винтовой, куда
бы ни шел ты отсюда, в песнях
морских царевен – квохчут под утро куры точёные
как багор. Это всего лишь отмель тянется из-
за пластинки музыки крейсера главной
и закутком тепла – выйдешь на
палубу летом и горькою жаждой полыни вспыхнет
нательная стража и выгорит тут же дотла. Но
ко всему до кучи, пенистые нахлёсты –
тела спонтанного бодрость, где
за спиной искрят линии на тельняшках – как будто
электрогнёзда запертые в маневрах – взятые
наугад. Любовниц портовых россыпи –
чугунного пьедестала – дышится
дном и серой, и тут же в глазах слезит – шествие и
застолье вокруг холостой Венеры, и ревность
её осколков незрячий кулак хранит. До
боли сведённый в узел, когда нет
другого хода – аорты дельфиньи ласки пульсируют
наугад, латунною стружкой воздух врастает в
блестящий загубник, и рыбой неоновой
метишь хрустальный ворованный
---
сад.
Жабры
В допотопной истерике, прилежным свидетелем быть
и плавится в собственном выдохе летнего зноя,
пузырь раздувать – как испанское платье
носить – в нём воздух щипать, и
обратной звенеть тетивою. Упав набекрень состояться
рассеянным ртом и всей этой конницей красной
нахлынуть в ресницы, отвалы моллюсков
похожи на башни, которые есть и
чёрная тяга, и велосипедные спицы. Откуда мне знать,
что безмолвный парадный проём, закрученный
Шехтелем шорох железобетонный – чуть
что, вырастает бубновым из тьмы
королём – губами овальными ловит мишень биатлона.
И в это сверканье нательное вшит бегунок изгиб
нержавеющей стали с заточенным краем,
когда бы не алые маки, а женский
чулок, себя выдавал
в бесконечную
пропасть
---
сползая.
Larus
Дать вместо скальной трещины береговой салют,
из жил воздушно-капельных впритык сойти
за тело – где в жемчуг мяч для регби
окунуть и ждать – как ждут
трофейный парабеллум. Не тучка, но из верхнего
угла сожмёшься гимнастическим снарядом:
упасть плашмя и заново упасть, с той
стороны на ремешке вести –
сквозь грунт позвать к себе Шахерезаду и против
отражения грести. Пусть финиш уменьшает
силуэт, ты ж на поверхность выйдешь
птичьим пухом – пылинкой
угодившей в реверанс – диапазон
бесстрашной повитухи, чуть
что, складирующей
вылетков в
---
сервант.
☯☯☯
Когда солнце уходит в закат вода как нерв:
обнажает свою натуру чернеющий
берег – и чайки, с криками
осатанелых стерв –
на пирсе добычу упругими клювами делят.
Па́йка суриком смажет их бледное
птичье нутро, вода за водою
проходит сжимаясь
в пружины – там, где бритвенным
лезвием ляжет скупое крыло,
из-под неба на землю
прольются сырые
---
рубины.
Короткая вода
Всё вокруг нас – переполненный коврик для йоги,
с функцией встроенной памяти, где груды
битых стекляшек бутылочных по́д
ноги льнут: в этом шорохе
узкой осоки движется дым, и охотник теряет свой
запах. Идти наугад – на шелковой привязи
тайно вести электрический маятник
слёз – я так часто дотошно
делюсь этим внутренним пламенем лишнего Рая.
Весь как вятское кружево берег-ландшафт,
в центр которого вставлена ось: тихо
тика́й вдоль меня холостая
борзая. Синхронным царевнам рукоплескание, и
их животы на алмазные копи похожи – нет
за ними грешка, только след выдаёт
белизну, лишь бы воздухом
взять здешний ворох хрустальных застёжек, и его
намотать, будто газовый шарфик, с лихвой
на блесну. И не маяться больше, и на
холодок не пенять, в зимних
выплесках радиоволн чуять женские
плечи – если эту короткую воду
отнять от лица – то затем
мне твой розовый
шепот омыть
будет
---
нечем.
Рыба
Состыкована рыба из проволочного полотна – у
неё в плавниках – как в кольчуге Алёша
Попович – застревает песок – но
костей закруглённых
длина,
упирается в кромку воды: кто раскручивал обруч,
тот поймёт что такое – быть пойманным
на живца. Каждый раз, когда дно
наполняется солнечным
светом,
она будто гальваника – серп на ладони
жнеца: промелькнёт и растает
в воде, как в кармане
---
монета.
1 Тетис